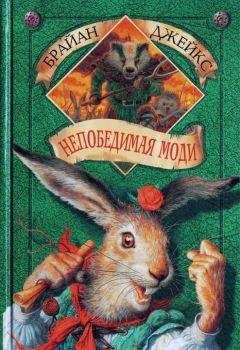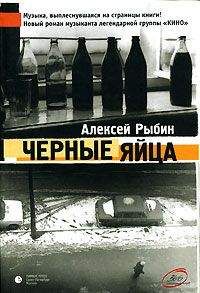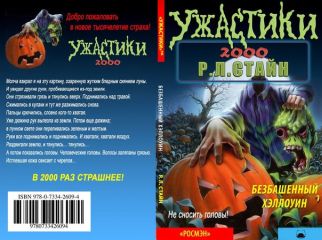Черные бабочки - Моди
— Ты подумала? — спрашиваю я, аккуратно положив руку на ее бедро.
Ее глаза открываются, почти сверкающие в темноте, и устремляются в меня. Долго. Достаточно долго, чтобы у меня пережало горло, чтобы мне захотелось сказать хоть что-то, чтобы только разорвать эту проклятую тишину.
И так я начинаю высказывать все, что приходит мне в голову: что мы не можем, мне хотелось бы, но наша мечта — это салон и мечта дороже всего; что у нас всегда будет время на младенцев, ведь мы хорошо знаем, к чему приводит, когда не можешь о нем позаботиться; что не стоит рождаться, чтобы в конечном итоге попасть на социальное обслуживание, жрать хрящи и поддаваться прикосновениям священников, читая Евангелие.
Она останавливает движением руки, потому что, возможно, у нее от меня начинает болеть голова.
Или, возможно, она просто хочет заплакать.
— Найди мне кого-нибудь.
— Кого-нибудь?
— Чтобы его вытащить. Он не вылезет сам.
Внезапно все становится реальностью, и я уже не знаю, что сказать. Тогда я беру ее в объятия, прижимаю к себе, но она ничего не чувствует. Ее взгляд ушел куда-то еще, далеко отсюда, в страну, которой нет, куда я никогда не мог за ней последовать. Я глажу ее волосы. Я говорю ей, что все будет хорошо. Что я рядом, что не надо бояться. Ее тело словно марионетка, с которой сорвали нитки, но она держится прямо, очень прямо, потому что она сильнее, гораздо сильнее, чем кто-либо в этом мире.
Тогда я наклоняюсь к ней и шепчу ей на ухо то, что я ей никогда не говорил, по крайней мере, не такими словами.
— Я тебя люблю.
Ее взгляд остается неподвижным, но ее рука крепко сжимает мою. Мне этого достаточно.
Вдруг я спрашиваю, голодна ли она, говорю, что осталось картофельное пюре, и сразу же жалею, потому что это немного разрушает волшебство. Как бы то ни было, она не хочет мое пюре.
Кстати говоря, картофель — мне нужно позаботиться о кошках.
Я осторожно закрываю дверь, чтобы вернуться на кухню, где Минетта, лежа в своей корзине, протягивает ко мне голову, желая, чтобы ее погладили. Мне больно видеть ее такой доверчивой, мурлыкающей в моей ладони, ведь я собираюсь отнять у нее детей. Всех шестерых. И не могу объяснить ей, потому что кошке не объяснишь. Я взял пакет из ящика, пластиковый пакет, наверное, им там будет тесно, но это неважно, в конце концов, они все умрут, и, да, они слишком маленькие, чтобы понять. Я опускаюсь на колени перед корзиной, глажу подбородок Минетты. Ее маленькие зубы царапают мою ладонь, и я не знаю почему, но мне даже хочется плакать. Мне от этого стыдно, ведь мужчина не должен плакать, тем более из-за кошек, и потом, черт возьми, я же даже в комнате только что не пролил ни слезинки. Я беру одного из них наугад.
Он, кажется, серый.
Минетта молчит, бедная, она только приподнялась, чтобы засунуть голову в мешок, но я ее отталкиваю и хватаю других. По одному, быстрее, чтобы это не затягивалось, чтобы они перестали пискляво мяукать, разрывая мне сердце. Черт, каждый день люди умирают во Вьетнаме, а я в таком состоянии из-за кучки котят. Это смешно. Не знаю, что со мной происходит. А Минетта теперь издает продолжительные крики, как будто плачет.
И я тоже плачу, черт возьми.
Я тоже.
9
Мне нравится эта дорога. Ощущение, словно ты в фильме. Она серпантином извивается над морем, таким голубым, что кажется, будто оно ненастоящее, с бликами света, заставляющими прищурить глаза. Здесь пахнет смолой, пахнет каникулами. Да, каникулами, настоящими, а не воскресными поездками на скалы Севера. Ветер надувает мою куртку, волосы Соланж развеваются, и в зеркале заднего вида я вижу, как ее глаза сверкают.
Повороты следуют один за другим, дорога все поднимается. Я ускоряюсь. И думаю, что мы правильно сделали, арендовав эту белую «Веспу»[4], мятую, некрасивую, зато она хорошо едет в гору, и это намного лучше, чем автомобиль. Сумасшедшее ощущение скорости, семьдесят на спидометре, и мне кажется, будто мы летим. Все бьет в голову: ветер, запахи, солнце, красный цвет скал на фоне голубого моря. Блин, это так красиво. Соланж похлопывает меня по плечу, потому что перед нами знак «Смотровая площадка» и люди останавливаются, чтобы полюбоваться пейзажем.
Хоть я говорю «люди», здесь только одна машина, но это «Тип Е»[5], и я чуть ли не забываю посмотреть на море. Впервые я вижу такой, с открытым верхом, серебристого цвета с черной кожаной отделкой.
Это самая красивая машина в мире.
Я ищу подножку — этот скутер весит тонну, — пока Соланж торопится к краю утеса. У меня от вида чуть-чуть заныло в животе, кружится голова, но я все равно улыбаюсь, видя, как она раскидывает руки на ветру. Как обычно, она выглядит как с обложки журнала: белая туника, большой пояс, джинсы клеш, идеально облегающие ее ягодицы. И, как обычно, она привлекает взгляды. Даже здесь, в богом забытом месте, на этой смотровой площадке, где люди должны смотреть на море. Со временем я привык, думаю, мне это даже нравится, но сейчас меня немного раздражает, потому что этот парень ездит на Jaguar. Он уже третий раз смотрит на Соланж, с камерой в руке, и без стеснения направляет объектив на нее. Вот так, прямо перед моим носом. И делает снимок.
Серьезно?
— Хей! А что вы тут делаете?
Он улыбается мне, этот придурок. Со своим видом большого бобового стручка, брюки бежевого цвета, слишком обтягивающие на бедрах, ботинки на молнии, рубашка расстегнута до пупка.
— Perfect moment.
— Что?
— Идеальный момент.
Какой идеальный момент? Начнем с того, что никто не говорит «момэнт», кроме англичан, которые сильно выпендриваются своим акцентом, чтобы соблазнить девушек, но вопрос не в этом.
— Извините, — говорит он, протягивая мне руку. — Стивен. Стивен Пауэлл.
Его рука остается вытянутой, и я колеблюсь, решая, стоит ли мне дать ему по морде. Но есть у этого придурка что-то обезоруживающее. И так как никто ничего не говорит, он продолжает, объясняя, что он фотограф, что здесь все красиво — море, небо, Соланж, белая Vespa и я. Что нельзя упустить идеальный момент. Что этот снимок мог бы стать прекрасной обложкой Vogue. Конечно, это не ускользает от Соланж, которая не может сдержать улыбку, потому что думает о стопке журналов на нашем журнальном столе, о страницах, теряющих цвет от частого перелистывания. Она знает их наизусть, каждый наряд, каждую чертову пару деревянных башмаков.
И теперь он разговаривает с ней, как будто меня уже нет, с его странными оборотами речи и жестикуляцией.
— Вы ведь модель, да?
— Нет.
— Модель.
— Нет.
— Ох. Действительно?
Это не вопрос, поэтому она не отвечает, но на ее лице появляется застенчивое выражение, которое меня немного раздражает, пока он продолжает разговор. Он разбирается в моделях, это его работа — его «джоб». Он видит их каждый день. Он снимает для Vogue. И Marie Claire. И Marie France. И других, о которых я никогда не слышал, но которые заставляют глаза Соланж сверкать.
— А ты? Как тебя зовут?
— Альбер.
— Чем ты занимаешься, Альбер?
— Я парикмахер.
— Вау!
Не знаю, почему «вау», но он хочет знать, навожу ли я красоту на головах девушек для журналов и на дефиле. Нет, я не подстригаю девушек на дефиле. Единственные головы, которые меня интересуют, — это головки элитного сыра.
— Guys, пойдем выпьем? Мой дом всего в десяти минутах отсюда, и у меня есть охлажденное шампанское. Бассейн, барбекю… Вы увидите, там круто.
— Нет, спасибо.
— Вы уверены?
— Да, мы уверены…
Но Соланж менее уверена, чем я, и это видно, поэтому он повторяет, что есть шампанское, потому что хорошо догадывается, что мы не пьем его каждые выходные, и я задаюсь вопросом, какой же парень открывает бутылку просто для того, чтобы выпить за здоровье с незнакомцами.
— Я арендую это место каждое лето. Для съемок. Если вам интересно увидеть студию…