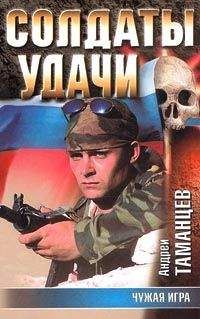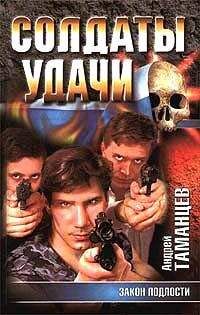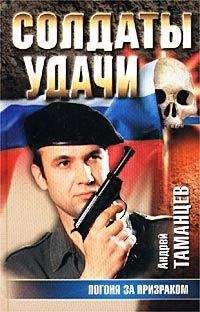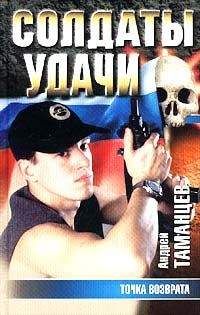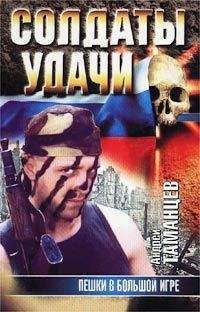Андрей Таманцев - Автономный рейд
С годами желание доказывать недоказуемое пропало. По-прежнему первым и громче всех смеялся я над намеками и подколками насчет своего роста и субтильной на вид комплекции. Но уже не выслеживал обидчиков. Всех не перекалечишь.
Правда, позже, когда попал в Чечню, а там мне выпало попасть в спецотряд Пастуха, повезло. Если такое можно считать везением. На войне армия поляризуется: варенье отдельно, а дерьмо — подальше от боя, поближе к начальству и складам. Нормальный процесс. Не всегда, конечно. Есть варианты. Но все ж таки там от друга, прикрывающего тебе спину, зависела не карьера и не только жизнь. Но и смерть. Кто там побывал, тот знает, какой разной она может быть. К тому же Пастух помог мне осознать ценность моих особенностей. Он меня, именно меня искал для своего спецотряда. Потому что в каждой боевой части, а особенно в спецназе, в разведке, просто необходимо иметь хотя бы одного маленького, узкого и верткого, но умного. Просто ради выживания группы необходимо.
Любого здоровяка можно заменить, взявшись вдвоем или втроем. А малявку как заменишь? Распочкуешься, чтобы в щель пролезть или на ветке притаиться?
Когда меня стали по-настоящему ценить именно за комплекцию, пришло умение ею пользоваться и несколько даже гордиться.
А потом когда Пастух с нашей помощью разоблачил высокопоставленных жуликов в чеченских мундирах, весь наш спецотряд с треском вышибли из армии. За неподчинение боевому приказу. Наверное, я был единственным из нас семерых (нас тогда еще было семеро), кто этому обрадовался. Когда армия решила, что ей без меня проще, я уже знал, что мне-то без нее и вообще лафа. И не потому, что война в Чечне что-то постыдное. Война у каждого своя. О тех, кто других за нефть или свои амбиции на смерть посылает, я говорить не буду. Я о своей войне скажу. О том, почему мне за нее не стыдно, хотя там я в дом, из которого стреляют, предпочитал входить так: сначала граната, потом очередь, а уже потом я.
В сорок первом — сорок четвертом годах наши летчики и свои города бомбили, в которых их же дети оставались. В сорок пятом, когда Берлин громили, тоже гибли женщины и дети. И немок некоторые наши, в тоске по женскому, дрючили почем зря. Чего ж никто Жукова не позорит за это, а?
Потому что была расплата за то, что они делали с нами, потому что никто не хотел в рабство или в лагерный крематорий... А в яме выкупа дожидаться, ишачить за миску помоев на его свободолюбивое горское величество кому-нибудь хочется? А выкуп перед видеокамерой вымаливать? Мне — нет. И помочь тому, кто в ту яму попал, — мой святой солдатский долг. Помочь тем, что есть у тебя, солдата, в руках, помочь тем, что стреляет и режет.
Кто-то, возможно, умеет перевоспитать рабовладельца словами. Я — нет.
Это не к тому, что на войне все можно. Наверное, бывает, что и не все.
Пленных, например, не дело стрелять. У них информации полно. А информация жизней стоит.
Это мое личное, и ничье больше, мнение. Я говорю только за себя.
А вообще-то я все это к тому, что, прежде чем солдата хулить, ты представь себя самого один на один с тем, с кем твой солдат воюет. Вот так — просто: ты в яме, представь, а он, она или они — сверху на тебя мочатся.
Потому что ты пить попросил(а). Потому что беззащитен(тна). Беззащитность — достаточное основание для рабовладельца, чтобы тебя гнобить: насильничать и издеваться.
Представишь это, тогда и решай: Аллочке Дудаевой сочувствовать или той Марии Ивановой, которая в качестве весточки из дудаевских краев палец сына получила. А пока ты решаешь, Иванова мечется, чтобы деньги собрать на выкуп сына. Про голову твоего брата или сына, заботливо снятую на видео, говорить не буду. Такое не каждый представить сможет.
Кстати, многие немцы, чьи дома были разрушены, а семьи пошли по миру, хотя они никакого отношения к концлагерям и печам для людей не имели, искренне себя тогдашних стыдятся. Может, и те горцы, что покрывали соседей-рабовладельцев, тоже этому научатся? Немцев, напомню, в чувство привели бомбежки и солдаты.
В общем, спасибо общественности за поддержку, а армии — за выучку, за то, что свела меня с теми, кому я пришелся по душе. Но воевать мне поднадоело. Уж больно стремно было в девяносто пятом. У него на указательном пальце мозоль, у него под глазом синяк от оптического прицела, он тебя на голову выше, силен как бык, у его мамаши в погребе трое рабов, а ты его утешай за то, что ему четырнадцать или двенадцать лет? Чтобы он в свою безнаказанность уверовал? Нет уж. Вы вначале разберитесь: мы воюем или мы уговариваем, а потом и зовите. Либо солдат, либо уговорщиков.
* * *Разумеется, всего этого я Полянкину выкладывать не стал. Глупо распахиваться перед тем, кому, может, еще и горло рвать придется. И хотя от усталости и тепла меня очень в откровенность потянуло, сдержался.
Ограничился, кофеек прихлебывая, беглым пересказом истории нашего агентства «MX плюс». Но историю с ожерельем Тамары изложил подробно. Полянкин слушал внимательно и без скепсиса. По ходу моего монолога осмотрел браслет и кейс, отцепил меня от них и ловко подключил глушилку к сети. Наконец-то я смог снять куртку и чуть отойти от жары. Насколько в моей замше холодно на улице, настолько душно тут.
Когда я иссяк, Михаил Федорович насупился, пряча радостно заблестевшие глазки. Сурово отчитав меня и моих приятелей за верхоглядство, принялся въедливо выпытывать: кому я рассказывал о нем и его казематах вообще и о сегодняшнем к нему визите в частности? Настал момент из тех, которыми так густа моя работа: дурить голову тому, кто старается тебя обуть. Хотя сегодня, пожалуй, я с удовольствием бы и без этого. Притомился. В сон тянуло так, будто сотню кэмэ по горам отчапал. А Полянкин все приставал с расспросами.
Сначала я старался спрятать глаза, но потом как можно честнее, едва ворочая вялым языком, забожился, простодушно уставившись на Полянкина:
— А как же! В смысле никому и никогда . Ей-богу! Что я, дурак? То есть, конечно дурак... Что так вляпался... Но не совсем же?! Никому я о вас не говорил, и что я с этим кейсом тут, тоже ни одна живая душа не знает.
Самое смешное, что все это было чистой правдой. Вот много я в своей жизни разного делал, но выдать того, кто мне персонально доверился, никак не могу. Даже самым близким друзьям. Не могу, и все. Слова поперек горла встают. Единственный, кто слышал от меня кое-что о Полянкине, да и то не конкретно, без координат, а как о курьезе жизни, — это Боцман. Он тоже скопидомистый, и я его однажды поддразнил, рассказав, как люди копить умеют. Что до посланного Пастуху письма, так оно еще не дошло. Значит, и то, что никто не знает о сегодняшнем моем визите, тоже правда.
— Это как же тебя твои дружки одного да с такой ценностью отпустили? — не унимался Полянкин.
— Какая ценность, если там бомба? И они ж не отпускали! — Я замялся, как бы стараясь побыстрее придумать убедительное объяснение. На самом-то деле у меня было время версию сочинить заранее. — Я сам! Сам, да. Хотел узнать: нельзя ли как-нибудь так посмотреть, что внутри кейса, чтобы не рвануло? Вдруг там такое, на чем мы еще копеечку ухватим?
— А ты не думал, что за эту «копеечку» тебе шею могут свернуть? — вроде бы из сострадания, но больше от желания показать мне мою же глупость спросил Полянкин. — А заодно и мне вместе с тобой и твоей шайкой, понял — нет?
— Так мы, может быть, еще ничего не возьмем... — искренне удивился я.
— За что ж сворачивать? Но если там бомба, то с того, кто ее всунул, по понятиям можно неплохую компенсацию слупить, верно?
— А что с тебя самого компенсацию со шкурой слупят, об этом ты не подумал? — рассудительно осадил меня хозяин берлоги.
Я чуть не зауважал его за осторожность. Но даже за километр было видно, как ему самому хочется посмотреть: что же там, в кейсе, из-за которого такая суета?
Душевные терзания Полянкина явно были из тех, о которых говорится «хочется и колется». Если он откроет, а там нечто достаточно ценное, то тогда от меня стоит избавиться. Вдруг я все-таки хоть кому-то сболтнул о нем? Хозяева ценности явятся сюда, и тогда дело всей династии Полянкиных пойдет коту под хвост. Но если я о его подвале и на самом деле молчал, то тогда, если Михаил не рискнет открыть кейс, получится, что он глупо отказался от барыша. Решиться при такой скудной информации на риск — глупость. А не решиться — для человека его привычек значит отдать себя на съедение дальнейшим сожалениям. Не одна ведь совесть из отряда грызунов — у жадности тоже зубки ого-го. На моих глазах Мишаня из благообразного Михаила Федоровича превращался в махрового Михуилищу.
Полагаю, сейчас он скорбел, что я, знающий его тайну, зажился на свете. Возможно, он давно ждал как раз такого момента, чтобы и от меня избавиться, и выгоду от этого существенную поиметь. Я тоже жалел — о том, что поленился заблаговременно высветить его подноготную. Ох и достанется же мне за это от Пастуха и всего нашего «MX плюс»!