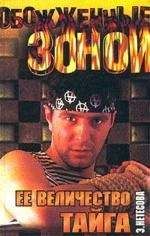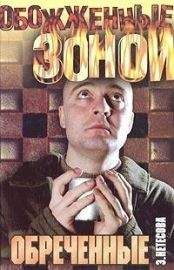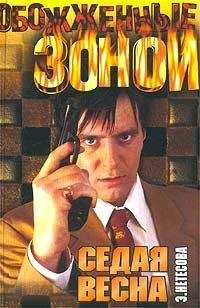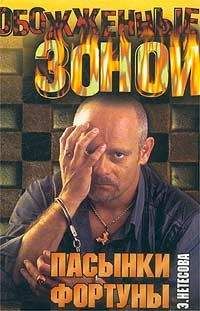Эльмира Нетесова - Закон - тайга
— А потому и берем, что даже за работу, самую тяжелую, не платило оно достойно. Оплачивало смертельный труд медными грошами. Каких не только на жизнь, на жратву не хватит. Самому. О семье и говорить не приходится. Потому само государство виновато в том, что мы воруем. Создать нормальные условия — жила тонка. Вот и считай: чем больше воров, тем слабее государство, тем больше всякого жулья, дешевле жизнь человека. И никакие мусора не помогут. Придет время, легавые на нас вкалывать станут, когда усекут, где навар жирней.
— Не все сволочи! — перебил рябого Трофимыч.
— Говорите, мы грабили? Туфта это! Грабили ваши! Фраера! Они трофеи волокли. Мы не за тряпки, не за барахло! Нам свобода была нужна! Кто наклепал на фартовых, пусть век воли не увидит! — сжал кулаки бугор.
— А кто трофеи по барахолкам спускает, как не вы? — вскипел Трофимыч.
— Если и продает воровская шпана тряпье на толкучках, то не сами, через барух! Оно не трофейное. Не водилось такого!
— Если не брезговали могилы шмонать, кто поверит, что на трофеи не зарились?
— И этим не фартовые, шпана промышляет.
— И вам долю дает со своего промысла. Не так, скажете? — прервал Костя.
Фартовые замолчали, сраженные доводом.
— Наваром попрекнул? Так мы тех кентов в чести держим. От фраеров и легавых. Когда они на мели сидят — гревом делимся. По зонам от начальства бережем. А вы друг друга без понту хаваете. Кто слабей, на того кодлой, — проворчал бугор.
— О чем это мы, мужики! Вот он — Пескарь. На его месте любой мог оказаться. Случайность выбрала его. Чего мы грыземся, кто хуже, кто лучше? Кончина всех прибирает. Я хоть и фраер, как обзываете, а жаль мне Пескаря. В паре с ним вкалывали. На равных. Со взгляда он умел понимать. Не сачковал, не отлынивал. И до воли ему немного оставалось. Мне Пескаря долго не забыть. Кем он был? Да какое мне дело до того? Главное — тут он мужиком был, человеком, — вздохнул Генка.
Фартовые благодарно посмотрели на него.
— Всяк за свою дурь наказан. По уму сюда никто не влетел. Выходит, чиниться не стоит, — грустно обронил Митрич. Утром, едва условники ушли на работу, за Пескарем пришла машина из Трудового.
Ефремов дотошно расспросил Митрича, как погиб фартовый. Велел охранникам положить покойника в кузов и вскоре уехал.
Митрич, приготовив обед, пошел в распадок набрать черемши мужикам. Оставил палатки и костер на попечение охранников. И те, устроившись поближе к теплу, разговорились о своем, о том, чего не должен был слышать ни один условник.
— Трудно мне здесь теперь. Пока не знал, за что сидят эти политические, считал их ярыми врагами народа. Хуже фашистов. Предателями. И ненавидел всех до единого. А послушал — страшно стало. За что посадили их? Ведь ни один не виноват. Разве за такое можно судить? — обратился молодой парень к старшему охраны.
Тот огляделся по сторонам для верности, заговорил тихо:
— Я давно этим отболел. Жалостью да сочувствием в нашей работе нельзя себя убивать. Нам приказано — охраняем. Мне один черт. Скажи я завтра Ефремову, что жаль мне политических, сам под охрану попаду. Потому молчите. Понятно?
— Головой понимаем все, а вот сердце не соглашается. За что их' сюда согнали, оторвали от семей, от работы?
— За тем, как я понимаю, что дармовая сила нужна. Тягловая. Страна в разрухе. А кто ее поднимать станет? За счет чего? Вот и вздумалось какой-то бестии за счет зэков из прорухи выйти. У них жратва, одежда, заработки — копеечные. Вот и нагнали людей в зоны — правых и неправых. Метлой метут. Оно незадолго до войны так же было. Теперь и вовсе без просвета. Я думаю, кто все это придумал, самый большой предатель и враг народа, — говорил рыжий, как подсолнух, парень, его вся охрана и условники звали одинаково — Ванюшкой.
— Ты с такими словами осторожней. Не приведись, услышит кто — хана! — предупредил старший.
— Неужели этому конца не будет? Смотрю я на Митрича, на бульдозериста, на Харитона, ну какие из них политические, кто это придумал? Митрич вовсе неграмотный. А остальные? Даже не верится, что за такое срок им могли дать, — не соглашался загрустневший Ванюшка.
— А я считаю, раз посадили, значит, правильно. У нас ошибок не бывает. Контра есть контра. Они здесь прикидываются, а выйдут на волю, снова негодяи! Их надо уничтожать, а не перевоспитывать и жалеть! — обдал холодом молодой охранник, которого даже между собой звали Василь Василичем.
Он был секретарем комсомольской организации, очень этим гордился. И комсомольский значок не снимал, даже ложась спать. Он был очень сознательным, правильным, как передовая статья центральной газеты. У него не было своего мнения, мыслей, переживаний. Их он черпал из периодики, которую время от времени привозили из села. Газеты и журналы он зачитывал до дыр. И был очень подкован идеологически.
Может, за эту сухую прямую правильность, без души и тепла, без сомнений и переживаний, недолюбливали его и условники, и охрана.
Знали все: случись беда с любым из охраны, приди на него приказ — расстрелять, Василь Василия выполнит его, даже глазом не сморгнув. Посчитав, что поступил правильно.
Его никогда не мучили сомнения, и сострадание ему было незнакомо. У него всегда был отменный аппетит и сон. По молодости и неопытности он не успел пока заложить ни одного из сослуживцев. Но случись минута, возникни благодатная почва иль ситуация, ни на секунду не задумался бы и настрочил донос. Считая, что поступил так, как велела гражданская совесть.
Может, потому спал он, ел и жил в одиночестве. И когда другие охранники, заметив наступление весны, читали стихи о любви и природе, Василь Василич зубрил стихи о партии и Ленине, которые декламировал на всех концертах художественной самодеятельности в селе.
Он был без памяти влюблен лишь в самого себя. Он был лишен даже капли человеческого тепла к ближнему. Считал, что никто из окружающих, кроме него, не мог претендовать на правоту.
Где-то в Москве, на Старом Арбате жили его родители — старые москвичи-интеллигенты. Да единственная сестра — партийный работник. От них он частенько получал письма, аккуратно отвечал на каждую весточку.
Скучал ли он по семье и дому, этого не знал никто. Он не имел друзей. И в душу никого не впускал. Да и имелась ли она у него?
Ванюшка после слов Василь Василича сразу сник. Продолжать разговор не захотелось. Даже старший охраны нахмурился, посуровел. И, глянув в сторону распадка, куда ушел Митрич, подумав, предложил:
— Сходил бы, Василь Василич, за черемшой. Всем к обеду. На кирзухе зубы не сберечь.
— А почему я? Черемшу не видел еще ни разу.
— Митрич покажет. С ним вместе и наберете.
— Стану я условника спрашивать! Только этого мне и недоставало! Да кто он такой, чтоб я, доверенное лицо страны, ка- кого-то негодяя просил мне помочь! — покрылось пятнами лицо Василь Василича.
Ванюшка не выдержал, встал молча, взял рюкзак и, не оглядываясь, пошел к распадку.
Больше двух лет жили парни бок о бок. Не понимая, чураясь Василь Василича больше, чем всех сучьих детей, вместе взятых.
Сегодня Ефремов обещал охране передать почту с охранниками, приехавшими в Трудовое на мотоцикле.
— Сам я сюда поспешил, а ваши в баню заторопились. Потом в столовую пойдут. Получат хлеб в пекарне. Пока управятся, я вернусь, отдам им почту. Там писем много. Василь Василичу целых три письма. Всю ночь читать будет, — пообещал он весело.
И охранники теперь нетерпеливо оглядывались на дорогу. Почта, да еще здесь, в тайге, была единственной нитью, связывавшей людей с домом.
Почта… Придут письма и условникам. Разгладятся на время усталые морщины на лицах. Сколько новостей, смеха, радости! Как долго будут всматриваться в дорогие, такие далекие лица родных, детей, которые еще помнят, еще ждут. Всю ночь будут вздыхать, прижимая к усталому сердцу фотографии детей. Словно не клочок бумаги, а теплые руки и головенки ребятни прилягут на время рядом, зашепчут, знакомо картавя, сокровенное:
— Папка, а мы тебя всегда ждали. Даже ночью. Как Деда Мороза, как сказку. Ведь ты больше никогда не уйдешь? Правда?..
Без времени, без детства, без тепла поседели головы жен и детей. Не сказкой, живым бы вернулся. В чудо давно перестали верить.
А условники помнили их теми, какими оставили, у каких отняли. В тот день… Самый черный в жизни каждого. Его нужно было суметь пережить.
На свою беду, уходя, оглянулись. Увидели горе. Так и запомнилось оно. Внезапное, злое. Оно иссушило всех. Оно возвращало ночами, во снах, тот последний миг. Ту секунду — застывших, словно окаменевших от горя жен и крики детей, какие не выморозили годы, муки, болезни:
— Папка, не уходи!
Да разве своею волей? Разве виноват в случившемся? Кто же себе пожелает горя? Никто не угадает заранее свою судьбу.
Условники помнили прежнее. И, не слыша годами голосов детей, не забыли лепет, смех, песни, давно забытые в их домах. В них все это время жила зима. Весны не было. Она умерла в тот день навсегда.