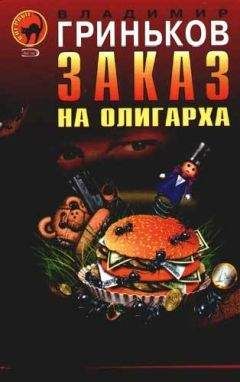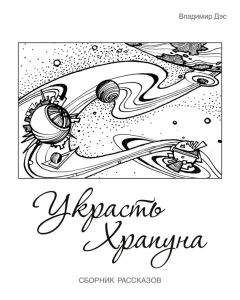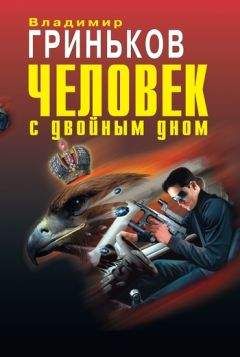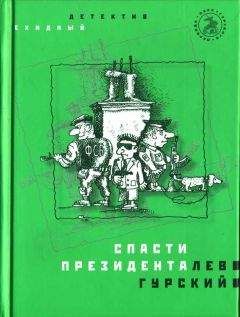Украсть у президента - Гриньков Владимир Васильевич

Обзор книги Украсть у президента - Гриньков Владимир Васильевич
Ему устроили то, что можно назвать подменой личности. Секретное психотропное средство превратило полковника ФСБ в малограмотного шоферюгу. Он шофер. Ничего иного о себе не знает, не помнит. Память мертва. Заблокирована наглухо. Не достучаться. Между тем этот, именно этот человек выполнил сверхважное задание: спрятал некий тайный фонд. Он не верит этому. «А большие деньги-то?» И слышит в ответ: «Двадцать пять миллиардов долларов». Президентская заначка. Она исчезла. Где она – знал только он. Теперь не знает. Заставили забыть...
Владимир Гриньков
Украсть у президента
Украсть у президента
Корнышев впервые увидел человека, приговоренного к пожизненному заключению. Изможденное лицо. Нездоровый цвет кожи. Нервные суетливые движения. Взгляд потухший. Он все время прятал глаза. Едва его ввели, зыркнул взглядом, зафиксировав в памяти два новых, никогда прежде не виденных лица – Корнышева и приехавшего с ним Горецкого, – и тут же уставился в пол, как провинившаяся и ждущая неминуемого хозяйского наказания собака. Вид этого человека неприятно поразил Корнышева. Никогда прежде не был с ним лично знаком, но видел фотографии из той, прежней жизни, и случившаяся в этом человеке перемена лучше всего поведала о степени свалившихся на него несчастий. Корнышеву вспомнился состоявшийся у них с Горецким накануне разговор.
– Я попробую его раскачать, – сказал Горецкий. – Но надежда есть только в том случае, если он еще не потух окончательно. Если сломался и живет уже не как человек, а как животное – с ним уже ничего не сделаешь. Это психика, уважаемый. Такая штука – вроде бы что-то эфемерное, руками не потрогаешь, а вот перемкнет человека, и ничего ты с ним не сделаешь, как ни бейся.
Сейчас, когда Корнышев увидел осужденного, ему показалось, что дела плохи. Даже посмотрел украдкой на Горецкого, пытаясь определить, какое впечатление на него произвела эта встреча, но Горецкий был невозмутим, рассматривал вошедшего, словно пытался понять, с какой стороны к тому можно подступиться.
– Здравствуйте, Виталий Сергеевич, – сказал Корнышев. – Присаживайтесь, пожалуйста.
Осужденный послушно опустился на стул, но перед тем бросил на Корнышева быстрый взгляд. Похоже, ничего хорошего он не ждал. Он вообще не ждал от жизни ничего хорошего. Прав Горецкий. Если человек сломался, попробуй-ка выцарапать из него что-либо полезное. Вряд ли получится.
– Назовите себя, – попросил Корнышев.
– Иванов Виталий Сергеевич. Статья сто пять. Приговорен к пожизненному заключению.
– А что такое у нас статья сто пять? – спросил Корнышев.
– Убийство, – ответил Иванов глухим голосом, глядя в бетонный пол.
– С кем же это вы так жестоко обошлись? – спросил Корнышев, и его вопрос прозвучал неуместно легкомысленным в этих страшных стенах, откуда для собеседника Корнышева будет только одна дорога – до тюремного кладбища, где его когда-то небрежно зароют, а вместо памятника воткнут в землю табличку с номером.
Иванов поднял глаза и посмотрел на Корнышева затравленным взглядом. Корнышев молчал. И все это выглядело так, будто он действительно ожидал ответа.
– В приговоре все написано, – пробормотал Иванов, не понимая, что он него нужно этому незнакомцу, крепкому молодому мужику с холодно-циничным взглядом умных глаз, в котором человек служивый угадывался несмотря на его вполне цивильный наряд.
Таких людей Иванов, перемолотый жерновами правосудия, теперь был способен распознавать с первого взгляда.
– А я от вас услышать хочу, – сказал Корнышев.
– Двойное убийство, – хмуро поведал Иванов. – Сотрудник милиции и офицер ФСБ.
– Как же это вас угораздило! – будто бы даже удивился Корнышев.
И снова Иванов глянул затравленно. Горецкий не зря говорил о превращении человека в животное. Сейчас Корнышев как раз и видел перед собой затравленного, загнанного в угол зверька. Огрызаться уже не может и во взгляде у него – тоска и обреченность.
– По пьянке, что ли? – спросил Корнышев. – Или такой у вас был злодейский умысел?
Он сохранял серьезный вид, но в его фразах сквозила какая-то несерьезность, и Иванов терялся, потому что в его собственной судьбе ничего несерьезного за последний год не было, все имело смысл и имело цену, цена всегда оказывалась непомерно высокой, и эту цену Иванов безропотно платил, как дань за содеянное им.
– По пьянке, – пробормотал Иванов.
– Вместе пили? Соображали «на троих»?
– Примерно так, – морщился Иванов.
– А не поделили чего?
– Я не помню. Я же говорил. В материалах дела все есть.
– А раньше у вас конфликтов с погибшими не было?
Иванов посмотрел на задавшего вопрос Корнышева тяжелым взглядом и ничего не ответил.
– Вы вообще на какой, так сказать, почве с ними сошлись? – спросил Корнышев. – Друзья детства, что ли?
– В смысле? – тяжело смотрел Иванов.
– Вы у нас по профессии – кто?
– Водитель, – мрачно сказал Иванов.
– И чего же мы такое водим? – снова прорезалась необъяснимая легкомысленность вопроса.
– Машину мы водим, – метнул затравленным взглядом Иванов. – КАМАЗ.
– Так вот я и спрашиваю: что может быть общего у старшего лейтенанта милиции, полковника ФСБ и приехавшего на заработки шоферюги-рязанца? Что такое должно случиться, чтобы они сели вместе пьянствовать?
– Я не понимаю.
– И я не понимаю, – поддакнул Корнышев.
– Я не про то, что не понимаю, почему пьянствовать, – пробормотал Иванов. – Я про то, к чему это все.
– Все – это что?
– К чему весь этот разговор.
– Этот разговор к тому, что я хочу понять, как оно там все было, – произнес ровным голосом Корнышев.
– Я же все рассказал на следствии. Я все подписал.
– А зачем вы подписали? – вдруг спросил Корнышев и посмотрел внимательно.
– То есть как? – растерялся Иванов.
– Зачем вы признались в убийстве?
Иванов смотрел так, будто не понимал, чего от него хотят эти люди.
– Вы понимаете, что никогда отсюда не выйдете? – вдруг произнес молчаливший до сих пор Горецкий, и испуганный взгляд Иванова переметнулся на него. – Пожизненное заключение – это ведь навсегда. А слово «навсегда» в этих стенах звучит намного безнадежнее, чем там, на воле. Потому что здесь «навсегда» – это очень короткий срок. Здесь долго не живут. Не курорт.
Лицо Иванова потемнело и сморщилось, и он за две секунды постарел сразу на двадцать лет, словно торопился подтвердить справедливость сказанных Горецким слов.
– И еще одно соображение, – произнес Горецкий. – Ведь не может быть, чтобы вы не задумывались о смертной казни. О том, что смертную казнь могут вернуть. Это чепуха, что закон обратной силы не имеет. У нас еще как имеет. Вы про валютчиков историю слышали? Которым товарищ Хрущев лоб зеленкой намазал. Тогда, в послесталинские времена, страна перед иностранцами двери приоткрыла, и ушлые ребята стали у иностранцев валюту покупать. Первые валютчики были. И ничего ребята не боялись, потому что по уголовному кодексу им в случае чего грозили смешные три года. И когда их повязали, они так и думали, что все обойдется. А товарищ Хрущев, узнав, сколько денег эти молодцы заработали, осерчал и сказал, что таких расстреливать надо. И уголовный кодекс за один день переписали. Специально для этих ребят. Вот вчера еще им три года грозило, а сегодня уже расстрел. И ведь расстреляли, – поведал Горецкий и посмотрел на собеседника сочувственно-печально.
Иванов нервно двинул кадыком.
– Что вам от меня нужно? – спросил с тоской, и было видно, что действительно не понимает.
Горецкий не ответил, и Корнышев догадался, что тот передает Иванова ему – подготовил «клиента» и предоставляет Корнышеву возможность продолжать.
– Мой товарищ хочет сказать, что здесь действительно не комфортно, – подключился к разговору Корнышев. – Во всех смыслах не комфортно. Тюрьма – место крайне неприятное. Но по-настоящему человек это осознает, только оказавшись здесь. Тут ведь действительно долго не живут.
– Что вам от меня нужно? – повторил страдальческим голосом Иванов.
– Вы хотите отсюда выйти? – быстро спросил Горецкий.
Иванов посмотрел ошарашенно. Он испытал такое потрясение, что лишился дара речи. Шок надо пережить. Сильный шок – тем более.
– Откуда вы знали убитых вами людей? – спросил Корнышев, не давая Иванову опомниться. – Что вас связывало?
Иванов тяжело дышал, лицо побагровело, и казалось, что еще немного – и он заплачет.