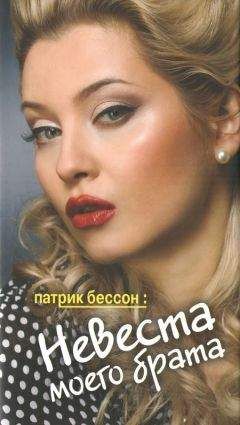Ольга Громыко - Незванная гостья
— Значит, так, — совершенно нормальным, деловым тоном начал дайн, неторопливо потягивая медовуху. — Завелось у нас на пруду чудо невиданное, злобное и прожорливое, четырех детей за неделю под воду утянуло и слопало, только обувка на берегу осталась. Каковой участи и тебе, ведьма, искренне желаю… но лишь опосля убиения чудища оного.
— Кикиморы, что ли?
— Кикиморы! — фыркнул дайн. — Да кикимору мы бы с божьей милостью и железными цепами живенько отучили добрую паству изничтожать. За каждую кикимору ведьмам поганым платить — пожертвований не наберешься.
— А сколько наберетесь? — живо заинтересовалась я.
Дайн подумал, посчитал в уме, закатив глаза на засиженный мухами потолок, и назвал цену. Я удвоила, чем удостоилась замысловатой анафемы.
— …да будет пламя адское столь же неутолимо, сколь алчность чародейская! — Закончил Эразмус.
Я беззвучно поаплодировала и сбросила три монеты.
Дайн накинул две.
Пронзительный лай прервал наш торг на самом интересном месте. Маленькая кривоногая собачонка рыжей масти злобно бросалась на Смолкины бабки. Моя лошадка терпела до первого укуса. Потом она выпростала длинную морду из кормушки с овсом и уставилась на шавку немигающими змеиными глазами. Когда песик, присевший от страха на задние лапы, сообразил, на кого осмелился поднять голос, было поздно. Смолка молниеносно бросилась вперед и вниз.
Хрустнули позвонки. Короткий визг оборвался булькающим всхрипом.
Втянув клыки и запрокинув голову, Смолка сделала несколько судорожных глотательных движений… черный ком натужно прошел по ее горлу, встопорщив шерсть, и… все. Собачонка исчезла. Облизнувшись, Смолка удовлетворенно вздохнула и снова опустила морду в кормушку.
Дайн онемел. Сомневаюсь, что раньше он сталкивался с к'яаардом — так называют этих животных вампиры, и, насколько я знаю, у этого слова нет синонимов в человеческом языке. Всеядные, выносливые и послушные, к'яаарды с незапамятных времен используются вампирами вместо лошадей, от которых, кстати, внешне почти не отличаются. Смолка — дитя любви обычной крестьянской лошадки и чистопородного к'яаарда — унаследовала от отца не только всеядность, причем во всем были и плюсы, и минусы.
Пробормотав молитву и сотворив сложный знак надо лбом, Эразмус так и не смог оторвать вытаращенных глаз от мирно жующей кобылы.
— По рукам? — ловя момент, настойчиво потребовала я.
— По рукам, — рассеянно подтвердил дайн, пожимая руку мерзкой ведьме.
На какой сумме мы сошлись, он вспомнил только по дороге к пруду, и на меня, а заодно и на Смолку, обрушилась еще одна анафема.
* * *— Вот это — тот самый пруд? — не выдержала я. — Вы с ума сошли, Эразмус! Да в нем жабе икру метать зазорно!
Дайн угрюмо фыркнул, одергивая рясу.
Пруд… нет, широкая лужа, локтей шесть в диаметре, загаженная по берегам домашней птицей, отороченная хилым камышом, грязная и мутная, производила отталкивающее впечатление. Прогретая солнцем вода источала сладковатый гнилостный душок. Десяток белых упитанных уток важно пересекали пруд то вдоль, то поперек — три гребка туда, два обратно.
— Смейся, смейся, ведьма, — проворчал дайн. — А я посмеюсь, когда найду по утренней зорьке твои сапожки, ровненько стоящие у воды. И твои подковы, кровожадный демон!
Смолка ехидно заржала, выскалив клыки. Кьяаардов никогда не подковывали. По одной известной причине.
— Итак, вы утверждаете, — я безуспешно пыталась собраться с мыслями. Что вот в этом, ха-ха, простите за выражение, омуте, водится нечто, способное съесть ребенка?
— А вот переночуй на бережку — узнаешь, — дайну явно не терпелось убраться с глаз долой, общество ведьмы заметно тяготило смиренного служителя божества Как-его-там.
— И переночую! — уязвленно вскинулась я.
— Приятных тебе кошмаров, — неприязненно бросил дайн, брезгливо перекрестил меня на расстоянии, и удалился величественной поступью, то и дело оскальзываясь на кочках и подбирая рясу, пристающую к цепкими репейным головкам.
— И переночую… — пробормотала я себе под нос, уже далеко не столь уверенно.
Я ночевала на кладбищах, в могильных склепах, чащобах и урочищах, вурдалачьих берлогах, домах с привидениями, перекрестках трех и более дорог, чистом поле, постоялых дворах (что самое худшее, ибо заснуть там не удавалось ни до полуночи, ни после — мешали клопы и пьяное пение других постояльцев). По сравнению с ними щедро оплаченная ночевка на берегу сельского пруда казалась подозрительнее бесплатного сыра. Следовало удвоить, утроить, учетверить бдительность. Хотя… если это ловушка, и дайн Эразмус надеется уничтожить меня (в девятый раз!) окончательно и бесповоротно, то он выбрал самое неудачное место для засады — кругом, насколько хватает глаз, чистое поле с высохшей почти до основания травой, бесшумно не подкрадешься, внезапно не выскочишь.
Нет, дайн не дурак, видно, тут что-то другое…
Присев на корточки, я вспорола землю кинжалом, набрасывая острые углы пентаграммы. Пять-шесть пассов руками, два-три заклинания — и во мне снова закипело беспокойное раздражение.
Что за липовую работенку всучил мне фанатичный святоша? Нет здесь никакой нечисти. Нет и не было. И никого тут не убивали за последние сто лет.
Подняв с земли маленький камушек, я прошептала заклинание и кинула его в центр пруда. Бултых! Утки наперегонки рванулись за аппетитным звуком.
В висках кольнуло. Так я и знала! Три локтя в самом глубоком месте! Я искренне позавидовала буйной фантазии человека, чей не в меру болтливый язык населил пруд «злобными и прожорливыми» чудищами. Пропавших детей могли украсть разбойники, задрать упыри или бродячие собаки, наконец, они могли самовольно сбежать от родителей и пристать к проходящему купеческому каравану… да мало ли что.
Сбивала меня с толку одна-единственная деталь — сомневаюсь я, что чудище, сытно отобедав, выставит обувь на берег пруда, как пустую тарелку, не оставив иных следов трапезы. Да и убегать от родителей босиком тоже неудобно, по жнивью-то.
«А, ночь вечера мудренее», подумала я, и стала устраиваться на ночлег.
* * *Стемнело. Утки, потряхивая хвостами, выбрались из воды и, чинно переваливаясь и покрякивая, гуськом потянулись в деревню.
Расстелив одеяло на охапке камыша, я подремывала, вполуха прислушиваясь к шелесту высокой травы, по которой, не отходя далеко, бродила Смолка. Ни чудищ, ни дайна во главе воинствующей толпы. Тишина и покой.
Солнце скрылось за горизонтом, как тлеющий уголь под пеплом, и тут же чья-то невидимая рука распахнула двери ночи, впуская ее холодное дыхание на притихшую землю. Ветер с шелестом пересчитал сухие метелки камыша, взъерошил Смолкину гриву, ледяными пальцами пробежался по моим плечам.
Мысль о маленьком, но жарком костерке вытеснила все остальные. Неохотно поднявшись, я побрела к пруду, где, как мне помнилось, лежало у самого берега то ли полусгнившее бревно от мостков, то ли толстый сук дерева, годный на растопку. Заскучавшая лошадь увязалась следом, жарко дыша в спину.
В темноте пруд выглядел и вовсе неприглядно. Смолка понюхала воду, но пить не решилась, только вопросительно посмотрела на меня. Я развела руками — мол, и хозяйка на сухом пайке. А не найдет в темноте бревно останется и без жареной колбасы.
…Это ощущение нахлынуло внезапно. Как человек догадывается о приближении грозы по внезапной духоте и тяжести в висках, так опытный маг безошибочно чует надвигающуюся на него волшбу. Я замерла, краем глаза уловив стертое движение на той стороне пруда, мгновенно отозвавшееся знакомым посасыванием под ложечкой.
Движение повторилось. На сей раз я разглядела его отчетливо — словно на секунду сгустился и помутнел кусочек воздуха… сначала один… потом другой… несколько одновременно… десятки, сотни, тысячи вспышек… Подобно струям воды, стекающим с широкого зонта, они размыли мир и взломали его хрупкую оболочку.
Под моим изумленным взглядом пруд раздался вдаль и вширь, берега прыснули в разные стороны, как вспугнутые зайцы, запах гниющего ила сменило свежее дыхание леса, вода просветлилась и в ней отразились деревья и кусты.
* * *Я стояла на берегу лесного озера.
Там, у пруда, догорал закат, здесь же небо только начинало светлеть, и в предрассветной тишине и безветрии полз по зеркальной глади легкий туман, дышавший теплом и влагой.
Молодые березки склонялись над водой, щекоча ее кончиками тонких веток. Идеально круглое, локтей триста в диаметре, с пологими берегами, без единой камышинки и водоросли, озеро завораживало и пугало своей первозданной красотой. На песчаном дне был виден каждый камешек, каждая коряжка. Локтях в двадцати от берега кристально чистая вода темнела — дно резко обрывалось, уходило вниз, в пучину омута.