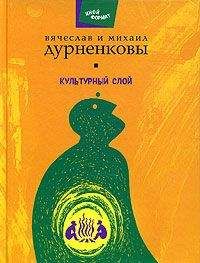Игорь Губерман - Гарики из Иерусалима. Книга странствий
В любви прекрасны и томление,
и апогей, и утомление
Природа тянет нас на ложе,
судьба об этом же хлопочет,
мужик без бабы жить не может,
а баба — может, но не хочет.
Мы счастье в мире умножаем
(а злу — позор и панихида),
мы смерти дерзко возражаем,
творя обряд продленья вида.
В любви на равных ум и сила,
душевной требуют сноровки
затеи пластики и пыла,
любви блаженные уловки.
В политике — тайфун, торнадо, вьюга,
метель и ожиданье рукопашной;
смотреть, как раздевается подруга,
на фоне этом радостно и страшно.
Есть женщины, познавшие с печалью,
что проще уступить, чем отказаться,
они к себе мужчин пускают в спальню
из жалости и чтобы отвязаться.
Люблю, с друзьями стол деля,
поймать тот миг, на миг очнувшись,
когда окрестная земля
собралась плыть, слегка качнувшись.
Он даму держал на коленях,
и тяжко дышалось ему,
есть женщины в русских селеньях —
не по плечу одному.
Едва смежает сон твои ресницы —
ты мечешься, волнуешься, кипишь,
а что тебе на самом деле снится,
я знаю, ибо знаю, с кем ты спишь.
Мы пружины не знаем свои,
мы не ведаем, чем дорожить,
а минуты вчерашней любви
помогают нам день пережить.
И дух, и плоть у дам играют,
когда, посплетничать зайдя,
они подруг перебирают,
гавно сиропом разводя.
Я не люблю провинциалок —
жеманных жестов, постных лиц;
от вялых страхов сух и жалок
любовный их Аустерлиц.
Встречаясь с дамой тет-а-тет,
теряешь к даме пиетет.
Мы заняты делом отличным,
нас тешит и греет оно,
и ангел на доме публичном
завистливо смотрит в окно.
Мужик тугим узлом совьется,
но если пламя в нем клокочет,
всегда от женщины добьется
того, что женщина захочет.
Блажен, кому достался мудрый разум,
такому все легко и задарма,
а нам осталась радость, что ни разу
не мучались от горя от ума.
В силу разных невнятных причин,
вопреки и хуле, и насмешке
очень женщины любят мужчин,
равнодушных к успеху и спешке.
Люблю величавых застольных мужей —
они, как солдаты в бою,
и в сабельном блеске столовых ножей
вершат непреклонность свою.
С каждым годом жить мне интересней,
прочно мой фундамент в почву врыт,
каждый день я радуюсь, как песне,
оклику, что стол уже накрыт.
Под пение прельстительных романсов
красотки улыбаются спесиво;
у женщины красивой больше шансов
на счастье быть обманутой красиво.
Чисто элегическое духа опущение
мы в конце недели рюмкой лечим,
истинно трагическое мироощущение
требует бутылки каждый вечер.
Чтобы сделались щеки румяней
и видней очертания глаз,
наши женщины, как мусульмане,
совершают вечерний намаз.
На закате в суете скоротечной
искра света вдруг нечаянно брызни —
возникает в нас от женщины встречной
ощущение непрожитой жизни.
Болит, свербит моя душа,
сменяя страсти воздержанием;
невинность формой хороша,
а грех прекрасен содержанием.
Женившись, мы ничуть не губим
себя для радостей земных,
и мы жену тем больше любим,
чем больше любим дам иных.
Я прошел и закончил достаточно школ,
но, переча солидным годам,
за случайный и краткий азарта укол
я по-прежнему много отдам.
По-моему, Господь весьма жесток
и вовсе не со всеми всеблагой:
порядочности крохотный росток
во мне он растоптал моей ногой.
Женщину глазами провожая,
вертим головой мы неслучайно:
в женщине, когда она чужая,
некая загадка есть и тайна.
В сезонных циклах я всегда
ценил игру из соблюдения:
зима — для пьянства и труда,
а лето — для грехопадения.
Что я смолоду делал в России?
Я запнусь и ответа на дам,
ибо много и лет, и усилий
положил на покладистых дам.
Живое чувство, искры спора,
игры шальные ощущения…
Любовь — продленье разговора
иными средствами общения.
Я устал. Надоели дети,
бабы, водка и пироги.
Что же держит меня на свете?
Чувство юмора и долги.
Но чья она, первейшая вина,
что жить мы не умеем без вина?
Того, кто виноградник сочинил
и ягоду блаженством начинил.
Мужчина должен жить, не суетясь,
а мудрому предавшись разгильдяйству,
чтоб женщина, с работы возвратясь,
спокойно отдыхала по хозяйству.
С неуклонностью упрямой
все на свете своевременно;
чем невинней дружба с дамой,
тем быстрей она беременна.
В мечтах отныне стать серьезней,
коплю серьезность я с утра,
печально видя ночью поздней,
что где-то есть во мне дыра.
Когда роман излишне длителен,
то удручающе типичен,
роман быть должен упоителен
и безупречно лаконичен.
Соблазнов я ничуть не избегал,
был страстью обуян периодически
и в пламени любви изнемогал
все время то душевно, то физически.
Не первопроходец и не пионер,
пути не нашел я из круга,
по жизни вели меня разум и хер,
а также душа, их подруга.
Я знаю, куда сквозь пространство
несусь на тугих парусах,
а сбоку луна сладострастно
лежит на спине в небесах.
Есть женщины осеннего шитья:
они, пройдя свой жизненный экватор,
в постели то слезливы, как дитя,
то яростны, как римский гладиатор.
Непоспешно и благообразно
совершая земные труды,
я аскет, если нету соблазна,
и пощусь от еды до еды.
Думая о бурной жизни личной,
трогаю былое взглядом праздным:
все, кого любил я, так различны,
что, наверно, сам бывал я разным.
Мы гуляем, поем и пляшем
от рожденья до самой смерти,
и грешнее ангелов падших —
лишь раскаявшиеся черти.
Меняя в весе и калибре,
нас охлаждает жизни стужа,
и погрузневшая колибри
свирепо каркает на мужа.
В очень важном и постыдном повинны,
так боимся мы себя обокрасть,
что все время и во всем половинны:
полуправда, полуриск, полустрасть.
Я давно для себя разрешил
ту проблему, что ставит нам Бог:
не жалею, что мог и грешил,
а жалею того, кто не мог.
Азартная мальчишеская резвость
кипит во мне, соблазнами дразня;
похоже, что рассудочная трезвость
осталась в крайней плоти у меня.
Предпочитая быть романтиком
во время тягостных решений,
всегда завязывал я бантиком
концы любовных отношений.
Спалив дотла последний порох,
я шлю свой пламенный привет
всем дамам, в комнатах которых
гасил я свет.
Я мыслю и порочно, и греховно,
однако повторяю вновь и вновь:
еда ничуть не менее духовна,
чем пьянство, вдохновенье и любовь.
Люблю вино и нежных женщин,
и только смерть меня остудит;
одним евреем станет меньше,
одной легендой больше будет.
Если я перед Богом не струшу,
то скажу ему: глупое дело —
осуждать мою светлую душу
за блудливость истлевшего тела.
Кто понял жизни смысл и толк,