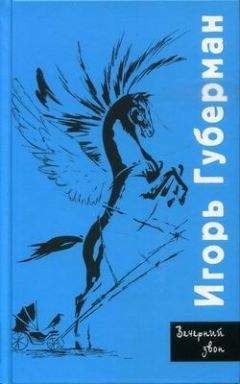Игорь Губерман - Закатные гарики. Вечерний звон (сборник)
Когда закончили перестройку старинной государевой тюрьмы, то выживших троих перевели в Шлиссельбург. Под номером четыре он и пробыл там до самого освобождения.
И постепенно появились книги. Их сначала привозил тюремный врач – для переплета, а потом их разрешили. Даже специальные журналы разрешили – например, по химии. Четвертый номер их особенно просил. Он в том как раз письме к сестре ей сообщал, что у него сейчас период химии, он написал уже полторы тысячи страниц. Его труды смогли увидеть свет лишь после выхода на волю. Но и десятилетия спустя, и до сих пор звучат по поводу его работ слова удивления и восхищения. Оторванный от живого общения с коллегами и без единого эксперимента, разумом одним, однако изощренным до предельного накала, он опережал современную ему науку лет на двадцать. Фантастическими были его частые удачи.
Он открыл, например, инертные газы. Заключенный номер четыре на пятнадцатом году своего заточения однажды летом на прогулке что-то жарко объяснял своему давнему товарищу. Он пылко и несвязно бормотал, картуз его то на затылок наползал, то надвигался на очки, фигура походила на огородное пугало благодаря почти лохмотьям, на него надетым, – он даже летом очень мерз от худобы. И надзиратель с часовым покатывались от хохота, глядя на своего самого мирного и тихого из подопечных злодеев. А Морозов говорил, от радости жестикулируя излишне, что еще шесть лет назад пришел к идее, что в менделеевской периодической системе элементов не хватает нескольких веществ, которые с металлами соединяться не способны из-за нулевой активности. Они инертны и недеятельны – неужели ты не понимаешь? И вот пришел журнал – они действительно существуют, эти инертные газы, и теперь войдут в систему. Представляешь, я ведь угадал!
Кристально бескорыстен был его научный интерес к устройству мира. Начисто лишен был этот интерес тщеславия, желания установить приоритет, любой вообще внешней цели. Был необходим, как дыхание. Возможно, потому он столького достиг.
И получил однажды разрешение кому-нибудь авторитетному свои работы показать. В девятьсот первом году некий профессор в Петербурге получил – на отзыв – рукопись по химии. Из Департамента полиции она пришла. И с сожалением, слегка брезгливо он подумал, что всего скорее тут пустое баловство: какой-нибудь из политических в тоске от заключения свой вывихнутый ум к науке обратил. А если бы он знал, что автор этой рукописи – недоучившийся гимназист, он вовсе бы читать не стал. Но он, по счастью, этого не знал. И потому от эрудиции автора, от тонкости и изощренности научного мышления он получил ничем не омраченное удовольствие. Что искренне отметил в отзыве. Подумав мельком, не без сожаления, что обладатель этих явственно незаурядных научных способностей – не покатись он по наклонному пути – возможно, стал бы неплохим ученым. А теперь, в отрыве от лабораторий современных, он надсаживает ум, пустые и бесплодные теории изобретая. Вот ведь бедолага что удумал: атомы, по его мнению, – это сложные и разложимые структуры. И что элементы разных веществ могут превращаться друг в друга, как будто вовсе не являются простейшими и неизменными детальками. И это говорится, когда сам Менделеев, сам творец периодической системы элементов, написал, что «элемент есть нечто, изменению не подлежащее», то есть основа и кирпич, исчерпывающее слово – атом. Оттого и всякое их превращение – немыслимо и невозможно. И снисходительно профессор написал: «Конечно, никому не возбраняется предполагать, что элементы могут превращаться друг в друга, но опыты, беспощадные опыты показывают, что во всех случаях, когда дело как будто бы шло о превращениях элементов, была или ошибка, или обман».
А Морозов – более обрадовался, нежели огорчился. Он себя в науке чувствовал как юный гимназист, нахально вторгшийся в интимные владения умов высоких и таинственно талантливых. И потому вполне доброжелательное равенство в тоне отзыва ему было важней гораздо, чем любое несогласие профессора. К тому же в правоте своей он тоже был вполне по-гимназически уверен. И прошло совсем немного лет, и «опыты, беспощадные опыты» подтвердили умозрительную правоту узника номер четыре.
Его идея о сложности атомов была предельно революционной по тому времени. И еретической настолько, что всерьез ее нельзя было принять, она обречена была остаться незамеченной. А он ведь предложил еще дальнейшую гипотезу: что в атоме имеются и положительно, и отрицательно заряженные частицы. На фоне общего научного убеждения, что атомы неделимы, он спокойно обсуждал свою первую в мире модель строения атома.
А кстати, эти глубоко научные идеи излагал он языком доступным, сочным, даже романтическим отчасти. Ведь никто не правил никогда его статей и публикаций к диссертации, никто не выхолащивал его язык до общепринятого уровня и тона.
И снова проницательность, приличная в то время разве что фантасту: в атоме сокрыта дикая энергия, которую вполне можно извлечь при расщеплении его. Возможно, именно таким путем и образуются новые звезды в результате взрыва старых – от высвобождения огромной порции энергии.
Было еще много всякого другого. В двадцати шести тетрадях вынес на свободу Николай Морозов чисто умозрительные новые идеи, а путем экспериментов подтвердились они сильно позже – с помощью немыслимой аппаратуры, оснастившей в XX веке все научные лаборатории.
А в Шлиссельбурге как-то Вера Фигнер спросила у Иосифа Лукашевича, человека столь же энциклопедических познаний, будущего известного геофизика, пока что – заключенного народовольца:
– А скажите мне, Иосиф, кем, по вашему мнению, был бы Морозик, занимайся он одной наукой? Где-нибудь в Европе, например?
И Лукашевич засмеялся, что-то сам себе пробормотал по-польски и ответил убежденно:
– Фарадеем. Это был великий химик и великий физик – Фарадей. Вам это мало говорит, Верочка, я готов объяснить подробней, но заложенного в нем – на Фарадея. Только вот какая штука, Верочка: так нельзя говорить о русских. Потому что стать в России Морозовым – это, как бы вам сказать, – это величественней, чем стать в Англии Фарадеем.
Хоть и бесполезней для науки, которая его лишена. Но величие и бесполезность – право же, они так близки друг к другу…
А еще, за книгой этой сидя, было мне забавно помянуть и тех, кто в эти годы сторожил веселого и даже что-то напевающего узника. Они ведь на свободе были, все эти служивые люди. За это время два коменданта крепости сошли с ума, а третий – перевелся, ибо опасался он такого же исхода. Первоначального смотрителя разбил на нервной почве паралич, его преемник пил напропалую и писал на всех коллег доносы, кончив тем, что по недоразумению или в горячке написал донос на самого себя – о непорядках, за которые он сам и должен был ответить. Был уволен. А другие – непрерывно сетовали на свою пропащую и совершенно каторжную жизнь, узникам они как раз и жаловались, кто бы их еще сумел понять?
Спустя несколько лет после того, как я это писал, мне лично довелось узнать, каким кошмаром жизнь была у вольных надзирателей и у охраны лагеря, где я сидел. Там зэков часто выводили, чтобы вскапывать начальству огороды или что-то делать по хозяйству, и такого я наслышался (меня не брали), что мне жутко жалко становилось этих поголовно спившихся и крепко недостаточных людей. И ничего я с этой жалостью не мог поделать. Хотя очень надо мной смеялись все мои соседи по бараку.
И в неполных пятьдесят два года вышел Николай Морозов на свободу. Ждала его кафедра в Вольной Высшей школе, пригласил его туда работать знаменитый в те поры врач и анатом Петр Лесгафт. Он не ахал и не восторгался современным Монте-Кристо, а пришел, представился и предложил Морозову – студентам химию преподавать, чтоб не пропали те богатства, кои накопил Морозов на острове Шлиссельбург. Морозов стал профессором, стал книги выпускать, работал он со страстью одержимого. Он занялся воздухоплаванием, летал на самых первых самолетах, высказал и здесь какие-то идеи, а увлекся так, что чудом оставался жив несколько раз. Его догадки о микрофизике облаков – чуть позже, как всегда, – специалисты подтвердили с помощью приборов.
И ту же самую он сохранил наивную доверчивость. Насквозь продрогший незнакомый человек зимой однажды постучался в его дверь. И рассказал несвязно жалостную некую историю, глазами бегая по стенам в это время. И Морозов без единого вопроса сам отдал пришельцу свое зимнее пальто. А через час пришли двое друзей и с удивлением спросили, кто на визитной карточке Морозова, приколотой к дверям, мог написать – «старый дурак». Морозов догадался, кто. Друзья негодовали, а он радостно смеялся, закидывая седую голову. Ибо всерьез его в то время волновала только давняя его теория о метеоритном происхождении лунных кратеров – сейчас он собирал к ней доказательства.
Да, вот еще: всего шесть лет поживши на свободе, снова отсидел он год в тюрьме. На этот раз – за сборник собственных стихов. Хоть обвинение было предъявлено издателю, но автор принял всю вину на одного себя. И на суде упорно защищался сам. Он говорил, что по статье «о дерзостном неуважении к верховной власти» – его нелепо обвинять, поскольку вне конкретного сегодняшнего времени и вне конкретного пространства все его стихи, они – лишь философия, если хотите, а статья закона – о России. И переглядывались многочисленные зрители: как чист и как наивен этот седой талантливый мальчишка. И ровно год сидел он в Двинской крепости. Ему смешон был комедийный этот срок, уже ведь двадцать восемь лет он отсидел.