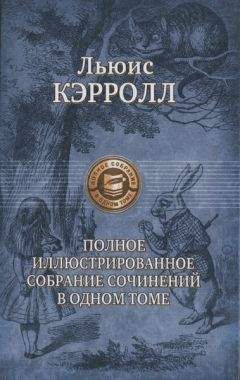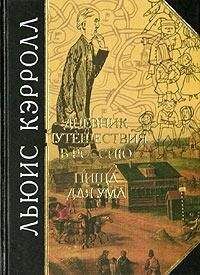Льюис Кэрролл - Льюис Кэрролл: Досуги математические и не только (ЛП)
— Молодой человек, — произнёс первый, — вы заявились без спросу в чужие владения, так что удалитесь, и весь тут сказ.
Едва ли следует говорить, что я не обратил на его слова никакого внимания, а взял бутылочку с гипосульфитом натрия и приступил к фиксации изображения. Мужлан попытался меня остановить, я дал отпор; негатив упал и разбился. Из дальнейшего не помню ничего, могу лишь высказать смутную догадку, что я кому-то как следует врезал.
Если в том, что я вам только что прочёл, вы способны отыскать какое-либо объяснение моему теперешнему состоянию, то дерзайте; но сам я, как и прежде, могу повторить лишь, что я потрясён, разбит, болен, весь покрыт синяками и не имею ни малейшего представления о том, что со мной произошло.
ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ШМИТЦ
Глава 1
«Вот так всегда!»
Старинная пьеса [89]
Знойное сияние полудня уже уступило место прохладе безоблачного предвечерия, и умиротворённый океан с лёгким нашёптыванием, внушающим поэтичным умам фантазии насчёт разоблачения и омовения, кропил мол, когда вдали показались двое путников, приближающихся к уединенному городишке под названием Уитби [90] по одной из тех головокружительных троп, удостоенных наименования дороги, которые только и могут вести в такие городки и которые обычно бывают проложены, надо полагать, согласно некоему фантастическому образцу трубы, подводящей к бадье дождевую воду. Старший из путников был измождённым мужчиной с желтоватым лицом, украшенным чем-то, на расстоянии часто принимаемым за усы, и скрытым под бобровой шапкой сомнительного возраста, а вся его наружность была если не представительной, то, по крайней мере, почтенной. Более молодой, в котором понятливый читатель уже опознаёт героя моего рассказа, имел обличье, которое, раз увидев, уже нельзя было забыть: лёгкая склонность к тучности казалась лишь незначительным изъяном в мужском изяществе его осанки, и хотя строгие законы красоты, вероятно, потребовали бы несколько более длинных ног для большей пропорциональности фигуры, хотя глазам его следовало точнее соответствовать друг другу по цвету и форме, чем это выходило на самом деле, но тем критикам, которые в своих суждениях не стеснены строгими правилами вкуса — а таких ведь много, — и тем, которые способны были закрыть глаза на недостатки его облика и возвестить о его прелестях, сколь бы малое число их ни отыскалось ради этого, тем, помимо прочих, кто знал и ценил его качества как личности и верил, что сила его разума превосходила аналогичные способности людей той эпохи, хотя — увы! — ни один такой ценитель ещё не подвернулся, — для тех он был сам Аполлон.
Разве имеет значение, если и можно было с определенной долей правоты утверждать, будто его волосы сдобрены слишком большим количеством сала, а его руки обработаны недостаточным количеством мыла? Что его нос слишком сильно загнут вверх, а воротник его рубашки — слишком сильно вниз? Что его усы позаимствовали у щёк все их румяна, за исключением малой щепоточки, которая сбежала на жилет? Такие мелочи не стоят замечания со стороны тех, кто претендует на завидное звание знатока.
Наречён он был Уильямом, а батюшку его звали Смит, однако, хотя он, представляясь в высших лондонских кругах, внушительно величал себя «Мистер Смит из Йоркшира», ему, к несчастью, не удалось заполучить ту долю внимания публики, которую он по собственному убеждению заслуживал. Напротив, одни спрашивали его, насколько в глубь веков может проследить он свою родословную, другие были достаточно злы, чтобы намекать, будто в его общественном положении нет ничего особенного, в то время как насмешливые расспросы третьих, задевающие законное пэрство его семьи, на которое он, как досуже судачили, почти что не претендовал, пробуждали в груди этого великодушного юноши жгучую тоску по тем высоким происхождению и родству, в которых враждебная Фортуна ему отказала.
Тогда он задумал преподносить о себе некий вымысел (который в его случае, возможно, следует считать поэтической вольностью), благодаря которому он подвизался в свете под звучным именем, выставленным в заглавии данного рассказа. Такой шаг уже способствовал значительному росту его популярности — обстоятельство, о котором его друзья отзывались непоэтичным сравнением со свежей позолотой фальшивого соверена [91], но которое сам он более красочно описывал так: «...Бледная фиалка средь мшистых кочек прозябала жалко, но восседает днесь меж королей» — участь, для которой, согласно всеобщему мнению, фиалки не предназначены природой.
Путники, погружённые каждый в свои думы, молчаливо спускались по крутизне, и только время от времени, натыкаясь на необычайно острый камень или неожиданный провал на тропе, они невольно издавали одно из тех болезненных восклицаний, которыми с таким торжеством демонстрирует себя связь бытия и мышления. Наконец более молодой путник, усилием воли пробудившись от тягостных фантазий, перебил и думы своего товарища неожиданным вопросом:
— Ты думаешь, она сильно изменилась? Я верю, что нет.
— Думаю кто? — раздражённо откликнулся тот, но поспешил поправиться, и с прелестным чувством грамматики подменил эту экспрессивную фразу другой. — Кто та она, о которой ты говоришь?
— Забыл ли ты, — ответил молодой человек, естество которого было столь глубоко поэтично, что он никогда не говорил обыкновенной прозой, — забыл ли ты, о чём мы давеча беседовали? Моими мыслями она одна владела.
— Давеча! — отозвался его друг саркастическим тоном. — Прошёл уже добрый час, как ты о ней последний раз упомянул.
Молодой человек кивнул, соглашаясь.
— Час? Что ж, верю. Мы миновали Лит, припоминаю, когда в твоё ухо нашептал я трогательный сонет к морю, написанный мной недавно и начинающийся так: «О море в шуме, ярости и пене...»
— Помилуй! — перебил другой, умоляющий голос которого звучал вполне искренне. — Давай не будем начинать сначала. Я уже терпеливо выслушал его один раз.
— Выслушал, так выслушал, — сказал расстроенный поэт. — Хорошо же, я снова предамся мечтаниям о ней.
Он нахмурился и закусил губу, затем забормотал про себя что-то вроде «жесток, недалёк умок», наверно, пытался подобрать рифму. Наша парочка проходила теперь близ моста; слева располагались мастерские, справа была вода, снизу доносился неясный гул моряцких голосов и, подхваченный ветром с моря, долетал запах, смутно напоминающий солёную селёдку. Всё это, от плеска волн в гавани до лёгкого дымка, грациозно курившегося над крышами домов, вызывало в одарённом юноше одни лишь поэтические переживания.
Глава 2
«Я, я один».
Старинная пьеса
— Кстати, о ней, — возобновил разговор прозаически настроенный спутник, — зовут-то её как? Ты ведь этого мне ещё не сказал.
Лёгкое смущение пробежало по привлекательным чертам юноши. Неужто её имя было столь непоэтичным, что не соответствовало представлениям поэта о гармонии? Он ответил нехотя и едва внятно:
— Её зовут, — произнёс он, слегка запинаясь, — Сьюки.
Долгий и низкий присвист явился единственным ответом, затем старший из собеседников поглубже сунул руки в карманы и отвернулся, в то время как несчастный юноша, по чьим болезненным нервам насмешка приятеля ударила слишком больно, с силой ухватился за перила, чтобы удержаться на ослабевших ногах. В этот момент их ушей достигли отдалённые звуки музыки, раздававшейся на утёсе. Менее чувствительный из спутников направился как раз в ту сторону, а горемычный поэт устремился на мост, чтобы там незаметно для прохожих дать выход еле сдерживаемым чувствам.
Когда он достиг середины моста, солнце уже заходило, и спокойная поверхность воды, расстилавшаяся под ним, усмирила его смятённый дух, поэтому он просто печально преклонил своё чело к перилам и задумался. Какие видения теснились в этой возвышенной душе, когда с лицом, начинавшим лучиться интеллектом, стоило ему просто приобрести выразительность, и хмурым взглядом, которому недоставало лишь величественности, чтобы быть ужасающим, вперял он в медлительный прилив такие прекрасные, хотя и воспалённые глаза?
Видения его детства, сцены счастливой поры передничков, сюсюканья и невинных шалостей; а сквозь долгую вереницу прошедших лет проносились призраки давно забытых прописей, грифельных досок, густо исписанных унылыми арифметическими задачами, редко решаемыми до конца, и никогда — правильно; его костяшкам и корням волос вернулись болезненные ощущения какого-то зуда — он снова был мальчиком.
— Ну-ка, парень, ты там! — вторгся в его думы голос. — Сдвинься туда или сюда, ты же стоишь как раз посерёдке!