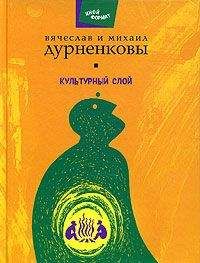Игорь Губерман - Гарики из Иерусалима. Книга странствий
Увы, подковой счастья моего
кого-то подковали не того
Вчерашнюю отжив судьбу свою,
нисколько не жалея о пропаже,
сейчас перед сегодняшней стою —
нелепый, как монах на женском пляже.
Декарт существовал, поскольку мыслил,
умея средства к жизни добывать,
а я, хотя и мыслю в этом смысле,
но этим не могу существовать.
Любая система, структура, режим,
любое устройство правления —
по праву меня ощущают чужим
за наглость необщего мнения.
Моих соседей песни будят,
я свой бюджет едва крою,
и пусть завистливо осудят
нас те, кто сушится в раю.
Я пить могу в любом подвале,
за ночью ночь могу я пить,
когда б в уплату принимали
мою готовность заплатить.
Главное в питье — эффект начала,
надо по нему соображать:
если после первой полегчало —
значит, можно смело продолжать.
А пьянством я себя не истреблял,
поскольку был доволен я судьбой,
и я не для забвения гулял,
а ради наслаждения гульбой.
Канул день за чтеньем старых книг,
словно за стираньем белых пятен —
я сегодня многого достиг,
я теперь опять себе понятен.
В тюрьму однажды загнан сучьей сворой,
я прошлому навеки благодарен
за навык жить на уровне, который
судьбой подарен.
Вчера я пил на склоне дня
среди седых мужей науки;
когда б там не было меня,
то я бы умер там со скуки.
Ценя гармонию в природе
(а морда пьяная — погана),
ко мне умеренность приходит
в районе третьего стакана.
Судьбу свою от сопель до седин
я вынес и душою, и горбом,
по не был никому я господин
и не был даже Богу я рабом.
Ввиду значительности стажа
в любви, скитаниях и быте
совсем я чужд ажиотажа
вокруг значительных событий.
Исполняя житейскую роль,
то и дело меняю мелодию,
сам себе я и шут, и король,
сам себе я и царь, и юродивый.
Подвальный хлам обшарив дочиста,
нашел я в памяти недужной,
что нету злей, чем одиночество
среди чужой гулянки дружной.
Кофейным запахом пригреты,
всегда со мной теперь с утра
сидят до первой сигареты
две дуры — вялость и хандра.
Сполна уже я счастлив оттого,
что пью существования напиток.
Чего хочу от жизни? Ничего;
а этого у ней как раз избыток.
Дыша озоном светлой праздности,
живу от мира в отдалении,
не видя целесообразности
в усилии и вожделении.
Услышь, Господь, мои рыдания,
избавь меня хотя б на год
и от романтики страдания,
и от поэзии невзгод.
Дар легкомыслия печальный
в себе я бережно храню
как символ веры изначальной,
как соль в житейское меню.
Когда мне часто выпить не с кем,
то древний вздох, угрюм и вечен,
осознается фактом веским:
иных уж нет, а те далече.
С людьми я избегаю откровений,
не делаю для близости ни шага,
распахнута для всех прикосновений
одна лишь туалетная бумага.
И я носил венец терновый
и был отъявленным красавцем,
но я, готовясь к жизни новой,
постриг его в супы мерзавцам.
Я нашел свою душевную окрестность
и малейшее оставил колебание;
мне милее анонимная известность,
чем почетное на полке прозябание.
В толпе не изобилен выбор масок
для стадного житейского лица,
а я и не пастух, и не подпасок,
не волк я, не собака, не овца.
Чертил мой век лихие письмена,
испытывая душу и сноровку,
но в самые тугие времена
не думал я намыливать веревку.
У самого кромешного предела
и даже за него теснимый веком,
я делал историческое дело —
упрямо оставался человеком.
Явившись эталоном совершенства
для жизни человеческой земной,
составили бы чье-нибудь блаженство
возможности, упущенные мной.
Я учился часто и легко,
я любого знания глоток
впитывал настолько глубоко,
что уже найти его не мог.
Увы, не стану я богаче
и не скоплю ни малой малости,
Бог ловит блох моей удачи
и ногтем щелкает без жалости.
Я, слава Богу, буднично обычен,
я пью свое вино и ем свой хлеб;
наш разум гениально ограничен
и к подлинно трагическому слеп.
Полным неудачником я не был,
сдобрен только горечью мой мед;
даже если деньги кинут с неба,
мне монета шишку нашибет.
От боязни пути коллективного
я из чувства почти инстинктивного
рассуждаю всегда от противного
и порою от очень противного.
Причины всех бесчисленных потерь
я с легкостью нашел в себе самом,
и прежние все глупости теперь
я делаю с оглядкой и умом.
Сижу с утра до вечера
с понурой головой:
совсем нести мне нечего
на рынок мировой.
Вон живет он, люди часто врут,
все святыни хая и хуля,
а меж тем я чист, как изумруд,
и в душе святого — до хуя.
Напрасно умный очи пучит
на жизнь дурацкую мою,
ведь то, что умный только учит,
я много лет преподаю.
Единство вкуса, запаха и цвета
в гармонии с блаженством интеллекта
являет нам тарелка винегрета,
бутылкой довершаясь до комплекта.
Я повторяю путь земной
былых людских существований;
ничто не ново под луной,
кроме моих переживаний.
Я проживаю жизнь вторую,
и как бы я ни жил убого,
а счастлив, будто я ворую
кусок чужой судьбы у Бога.
Житейская пронзительная слякоть
мои не отравила сантименты,
еще я не утратил счастье плакать
в конце слезоточивой киноленты.
Болезни, полные коварства,
я сам лечу, как понимаю:
мне помогают все лекарства,
которых я не принимаю.
Я курю, бездельничаю, пью,
грешен и ругаюсь, как сапожник;
если бы я начал жизнь мою
снова, то еще бы стал картежник.
Заметен издали дурак,
хоть облачись он даже в тогу:
ходил бы я, надевши фрак,
в сандалиях на босу ногу.
И вкривь и вкось, и так и сяк
идут дела мои блестяще,
а вовсе наперекосяк
они идут гораздо чаще.
Я сам за все в ответе, покуда не погас,
я сам определяю жизнь свою:
откуда дует ветер, я знаю всякий раз,
но именно туда я и плюю.
Я жил хотя довольно бестолково,
но в мире не умножил боль и злобу,
я золото в том лучшем смысле слова,
что некуда уже поставить пробу.
Чуждый суете, вдали от шума,
сам себе непризнанный предтеча,
счастлив я все время что-то думать,
яростно себе противореча.
Ушли куда-то сила и потенция.
Зуб мудрости на мелочи источен.
Дух выдохся. Осталась лишь эссенция,
похожая на уксусную очень.
Не люблю вылезать я наружу,
я и дома ничуть не скучаю,
и в душевную общую стужу
я заочно тепло источаю.
Моя душа брезглива стала
и рушит жизни колею:
не пью теперь я с кем попало,
из-за чего почти не пью.
За лютой деловой людской рекой
с холодным наблюдаю восхищением;
у замыслов моих размах такой,
что глупо опошлять их воплощением.
На лень мою я не в обиде,
я не рожден иметь и властвовать,
меня Господь назначил видеть,
а не кишеть и соучаствовать.
В шумихе жизненного пира
чужой не знавшая руки,
моя участвовала лира
всем дирижерам вопреки.
В нашем доме выпивают и поют,
всем уставшим тут гульба и перекур,
денег тоже в доме — куры не клюют,
ибо в доме нашем денег нет на кур.
Душевным пенится вином
и служит жизненным оплотом
святой восторг своим умом,
от Бога данный идиотам.
Последнее время во всем неудача,
за что бы ни взялся — попытка пустая,
и льется урон, убедительно знача,
что скоро повалит удача густая.
Высокое, разумное, могучее
для пьянства я имею основание:
при каждом подвернувшемся мне случае
я праздную свое существование.
Хоть за собой слежу не строго,
но часто за руку ловлю:
меня во мне излишне много
и я себя в себе давлю.
Усталость, праздность, лень и вялость,
упадок сил и дух в упадке…
А бодряков — мешает жалость —
я пострелял бы из рогатки.
Я пока из общества не изгнан,
только ни во что с ним не играю,
ибо лужу чувствую по брызгам
и брезгливо капли отираю.
Я все хочу успеть за срок земной —
живу, тоску по времени тая:
вон женщина обласкана не мной,
а вон из бочки пиво пью не я.
Я себя расходую и трачу,
фарта не прося мольбой и плачем;
я имею право на удачу,
ибо я готов и к неудачам.
Интимных радостей ценитель,
толпе не друг и глух к идеям,
я в зале жить мечтал как зритель,
а жил — отпетым лицедеем.
Из деятелей самых разноликих,
чей лик запечатлен в миниатюрах,
люблю я видеть образы великих
на крупных по возможности купюрах.
Я живу в утешительной вере,
что мое не напрасно сгорание,
а уроны, утраты, потери —
я в расчеты включаю заранее.
Где душевные холод и мрак
роль ума исполняют на сцене,
я смотрюсь как последний дурак,
но никто во мне это не ценит.
Есть ответ у любого вопроса,
только надо гоняться за зайцем,
много мыслей я вынул из носа,
размышляя задумчивым пальцем.
Свой разум я молчанием лечу,
болея недержания пороком,
и даже сам с собой теперь молчу,
чтоб глупость не сморозить ненароком.
Когда я пьянствовать сажусь,
душа моя полна привета,
и я нисколько не стыжусь
того, что счастлив делать это.
Как застоявшийся скакун
азартно землю бьет копытом,
так я, улегшись на боку,
опять ленивым тешусь бытом.
Мы живы, здоровы, мы едем встречать
друзей, прилетающих в гости,
на временном жребии — счастья печать,
удачные кинулись кости.
Я к мысли глубокой пришел:
на свете такая эпоха,
что может быть все хорошо,
а может быть все очень плохо.
В гармонии Божественных начал
копаюсь я, изъяны уловляя:
похоже, что Творец не различал
добро и зло, меня изготовляя.
Гнев гоню, гашу ожесточение,
радуюсь, ногой ступив на землю,
я за этой жизни приключение
все печали с легкостью приемлю.
А если что читал Ты, паче чаянья
(слова лишь, а не мысли я меняю),
то правильно пойми мое отчаянье —
Тебя я в нем почти не обвиняю.
Живя в пространстве музыки и света,
купаюсь в удовольствиях и быте,
и дико мне, что кончится все это
с вульгарностью естественных событий.
Быть выше, чище и блюсти
меня зовут со всех сторон;
таким я, Господи прости,
и стану после похорон.
Судьбу дальнейшую свою
не вижу я совсем пропащей,
ведь можно даже и в раю
найти котел смолы кипящей.
Я нелеп, недалек, бестолков,
да еще полыхаю, как пламя;
если выстроить всех мудаков,
мне б, конечно, доверили знамя.
Как раз потому, что не вечен
и тают песчинки в горсти,
я жизни медлительный вечер
со вкусом хочу провести.
Я в жизни так любил игру
и светлый хмель шальной идеи,
что я и там, когда умру,
найду загробные затеи.
Божественность любовного томления —