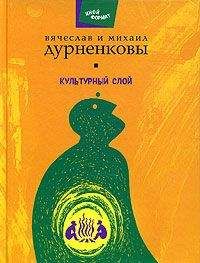Игорь Губерман - Гарики из Иерусалима. Книга странствий
Лично для меня любое посещение его дома — радость по еще одной причине: я бесцеремонно трогаю руками прикладные вещи, сделанные великими мастерами. Эфраим утверждает, что все стулья, на которых мы сидим, столы, на которые мы проливаем за обедом соус, ложки, вилки и ножи, тарелки и светильники — должны изготовлять художники, и наша жизнь тогда освещена будет иначе, и мы сами будем лучше, интереснее и содержательнее. Я впервые в жизни трогал в этом доме торшер, изготовленный любимым мною Джакометти, и его же работы женский торс. Нет, я и в музеях часто нагло трогаю украдкой экспонаты, только в частном доме это совершенно иное ощущение.
А как фамилия художника, изготовлявшего столовую посуду, я забыл, поскольку, сев за стол, я занимаюсь лучшим в нашей жизни делом — наливаю.
Я осмотрительно и быстро миновал кулинарную область, в которой я полный профан, и с легким страхом приступаю к теме, где темнота моя еще гуще и беспросветней. Ибо моя мама некогда закончила консерваторию, однако же Создатель по неведомым причинам поступил с моими музыкальными генами, как Ван Гог однажды — с собственным ухом. А Ильин — заядлый меломан, он слышит, понимает, чувствует и знает музыку. Он и дома у себя уже многие годы устраивает музыкальные вечера, а на концерты, где играют талантливые исполнители, ходит непрерывно и подряд. Не зная ничего об этой великой, для меня закрытой начисто области человеческого духа, я никогда и не расспрашивал его о дружбе с музыкантами, хотя однажды краем уха слышал его усмешливый рассказ о некоем великом артисте, дома у которого на скрипке Страдивари спала кошка. Только тема музыки меня вплотную подвела к одной из самых поразительных сторон его сегодняшнего существования.
Я убежден, что Эфраим всю свою жизнь делал подарки. Очень разные и очень разным людям. Но сейчас он дарит так активно, что невольно вспоминается имя Гая Мецената — того римлянина, имя которого стало нарицательным. Только Гай Меценат (насколько я осведомлен) помогал жить кружку поэтов (между прочих завывали там свои стишки Вергилий и Гораций), а Эфраим — давний и отъявленный меломан. Поэтому когда возник полюбившийся ему камерный оркестр «Камерата» (в основном евреи из России), то Эфраим Ильин запросто смотался на аукцион и купил двум музыкантам отменные старинные скрипки.
— Это я из чисто шкурных интересов, — пояснил Эфраим, — очень уж мучительное дело — слушать, как талантливый артист играет на плохом инструменте.
Я уже страницы две назад легонько спохватился, что употребляю для сегодняшнего Ильина очень уж елейные и сусальные краски, хотя помню, что пишу о человеке с очень непростым характером. Так вот, поссорившись однажды с кем-то из начальства этого оркестра, Эфраим осерчал и эти скрипки отобрал. Мне этот поступок почему-то очень симпатичен.
А в эти дни как раз, когда сижу я и пишу об Ильине свои посильные слова, в Беэр-Шеве при университете состоялось только что открытие удивительного музея. Не зря и не для красного словца Эфраим часто повторял, что человек должен с юности видеть красоту — он вырастет тогда совсем иным. Так вот Эфраим Ильин подарил университету огромную коллекцию живописи и прикладного искусства. Чуточку мне жаль, что я уже не поглажу при случае работы Джакометти — разве только будучи в Беэр-Шеве. Выставлена была при открытии только малая часть экспонатов — для музея строится специальное помещение. Стоимость подарка, по оценкам экспертов, — несколько миллионов долларов. А уточнять мне эту сумму ни к чему, такие числа для меня — величественная и голая абстракция.
Я убежден, что четверо правнуков Эфраима, когда они подрастут, — одобрят щедрость прадеда, такая в них хорошая заложена генетика, что они и без наследства сами встанут на ноги.
Наслаждайтесь этой жизнью еще много лет, Эфраим, и спасибо за страну, в которой я сейчас живу.
Часть VI
О всяком и разном
Сумерки всего
Сегодня утром я, как всегда, потерял очки, а пока искал их — начисто забыл, зачем они мне срочно понадобились. И тогда я решил главу о старости все-таки написать, поскольку это хоть и мерзкое, но дьявольски интересное состояние. Я совсем недавно пролетел над ровно половиной земного шара, чтобы выпить на юбилее старого приятеля. А перед этим сел и горестно задумался: что можно утешительного сказать на празднике заката?
— Я объясню это тебе, старина, — говорил я тремя днями позже, — на примере своей собаки Шаха. Я провожу с ним целый день, а вечером мы ходим с ним гулять. Ты не поверишь, но он еще старше тебя: по человеческому измерению ему далеко за семьдесят. Я даже загадку про нас придумал: старикашка ведет старикашку положить на дороге какашку. Так вот он, безошибочным животным инстинктом ощущая возраст, резко сузил круг своих притязаний к жизни, за счет чего резко обострились оставшиеся удовольствия. Он хорошо покакал — счастье, сочную сосиску дали — полное блаженство. Он, правда, полностью охладел ко встречным сукам, но на то ведь мы и люди, старина, чтобы лелеять свои пагубные влечения. Зато как изменились женщины по отношению к нам! Сперва у женщины в глазах мелькает ужас, но потом она благодарит, не скрывая восхищенного удивления. И тогда ты упоенно смотришься в зеркало, и — Боже мой, что ты там видишь! Но об этом тоже грех печалиться. Судьба обтесывает наш характер, а промахнувшись, оставляет на лице зарубки — что с того? Зато о жизни ты уже знаешь столько, что периодически впадаешь в глупую иллюзию, что можешь быть услышан, и даешь советы молодым. Тебя посылают с разной степенью деликатности, но ты не унываешь и опять готов делиться опытом. Какая это радость — быть всегда готовым чем-нибудь делиться! А сколько в жизни обнаружилось смешного — того как раз, к чему вокруг относятся серьезно, а вчера еще всерьез воспринимал ты сам.
И я поздравил его со вступлением в период мудрости, которой все до лампочки и по хую, лишь были бы здоровы дети.
Говорил я искренне вполне, однако многое осталось умолчанным, о том я и решился написать.
Всю жизнь мы очень мало знаем о себе, а старость благодетельно окутывает нас еще более непроницаемой пеленой. Заметил, например, по множеству выступлений: на моих смешных стишках о старости взахлеб хохочут старики, сидящие обычно в первых рядах. Я ожидал обиды, раздражения, упреков — только не безоблачного и беспечного смеха. И довольно быстро догадался: каждый потому смеется, что стишки совсем не о нем, а о его знакомом или соседе. И кокон этих благостных психологических защит окутывает нас тем плотнее, чем опаснее реальность для душевного покоя и равновесия. И бывшим палачам отнюдь не снятся жертвы, они помнят лишь, что время было да, жестокое, но справедливое, и жили они в точности, как все, — что примиряет память с совестью стремительно и прочно. Над памятью о поражениях любых такой уютный холмик вырастает из последующей любой удачи, что с невольной благодарностью судьбе старик приятно думает: все к лучшему, пословицы не врут.
У возраста, осеняемого душевным покоем, возникают мысли и слова, которые, возможно, в молодости не явились бы. Помню до сих пор свое немое восхищение, когда моя теща, поздравляя свою дочь с получением паспорта, задумчиво сказала, отвернув страницу регистрации брака:
— И пусть у тебя на этой странице будет много штампов.
А слова, которые услышал много лет назад поэт Илья Френкель, просто стали бытом в нашей семье по множеству поводов. Война застала Френкеля в Одессе, и он кинулся на почту утром рано сообщить, что жив и выезжает. К окошечку для дачи телеграмм толпилась чудовищная очередь. И вдруг какой-то невзрачного вида мужичок, кого-то отодвинув, а под кем-то проскользнув, стремительно просочился к оконцу и успел дать телеграмму еще прежде, чем вся очередь возмущенно загудела и зароптала. Он уже исчез, а громогласное негодование все длилось. И только стоявшая невдалеке от Френкеля ветхая старушка тихо и привычливо произнесла в пространство:
— Каждый думает, что он кто-то, а остальные — никому.
На одной автобусной остановке в Тель-Авиве стоял панк обычнейшего и типичного вида: копна волос, покрашенных в ярко красный цвет, с левого края головы побритый (крашено зеленым), и точно так же — с правой стороны (крашено синим). С панка не сводил глаз некий старик, тоже ожидавший автобуса. Такое бесцеремонное смотрение панку надоело, и он спросил у старика:
— Ну что вы на меня уставились? Вы в молодости что — не совершали никаких необычностей?
— Совершал! — старик откликнулся охотно и мгновенно. — Я в молодости переспал с попугаем и вот сейчас смотрю, не ты ли мой сын?
Но главный старческий порок, и нам его никак не миновать, — горячее и бескорыстное давание советов. Как на это реагируют молодые, можно не распространяться, ибо помню я одну московскую историю, которая сполна исчерпывает тему. Около заглохшей машины возился взмокший от бессилия водитель. То копался он в моторе, то с надеждой пробовал завестись — напрасно. Разумеется, вокруг уже стояли несколько советчиков. Из них активным наиболее был старикан, который кроме всяческих рекомендаций одновременно и выражал сомнение в успехе. И советовал без устали и громче всех. И наконец молодой парень-шофер, аккуратно отерев со лба пот, изысканно сказал ему, не выдержав: