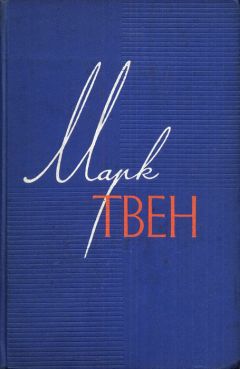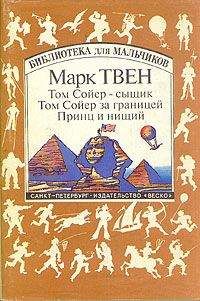Марк Твен - Том 7. Американский претендент.Том Сойер за границей. Простофиля Вильсон.
— Тише! Это я — твоя мать!
Том повалился на стул и, еле ворочая языком, забормотал:
— Я виноват, я поступил дурно, я знаю, но я хотел тебе добра, ей-богу правда!
С минуту Роксана стояла, безмолвно глядя на него, а он корчился от стыда и бормотал бессвязные слова, то обвиняя себя, то делая жалкие попытки объяснить и оправдать свое преступление. Потом Роксана опустилась на стул, сняла шляпу, и пряди длинных каштановых волос рассыпались у нее по плечам.
— Если я еще не поседела, так не тебе должна говорить за это спасибо, — печально промолвила она, глянув на свои волосы.
— Я знаю! Я подлец! Но клянусь, я хотел тебе добра, клянусь!
Рокси начала тихо плакать, потом, всхлипывая, сквозь слезы заговорила. Слова ее звучали скорее жалобно, чем гневно:
— Продал человека в низовья реки — в низовья реки, и еще говорит, что это ради его добра! Да я бы с собакой так не поступила! Ох, устала я, измучилась, даже злость и та куда-то пропала; прежде, бывало, спуску не дам, если кто посмеет меня обругать или обидеть. А теперь словно какая-то другая стала. Где уж мне теперь бунтовать, когда я столько выстрадала! Сидеть да горько плакать — вот и все, что мне осталось!
Слова матери не могли не тронуть Тома Дрисколла, но вместе с тем они подействовали на него еще иным образом: разогнали давивший его страх, вернули утраченную было самоуверенность, наполнили мелкую душонку чувством покоя. Однако он хранил благоразумное молчание, воздерживаясь от всяких реплик. Тишина длилась довольно долго, только слышно было, как барабанит по стеклам дождь, стонет за окном ветер да всхлипывает время от времени Роксана. Потом плач ее постепенно утих, и она снова заговорила:
— Прикрути-ка немного рожок, еще, еще немножко. Когда за человеком гонятся, ему что ни темнее, то лучше. Вот так, хорошо. Мне-то и без света видно, какой ты! Сейчас я тебе расскажу про свои дела — не бойся, я быстро, — а потом научу, что тебе надо делать. Этот человек, который купил меня, вообще-то ничего, не так плох, если сравнить с другими плантаторами, и будь его воля, он бы меня сделал служанкой в доме. Но жена у него — янки, и не сказать чтоб красивая, так она с первой минуты взъелась на меня и поселила с другими неграми, с простыми полевыми работниками. Да только ей и этого показалось мало, и она от злости и ревности начала натравливать на меня надсмотрщика, а тот стал поднимать меня до света и заставлял работать дотемна, да еще бичом хлестал, если я отставала от самых здоровенных работников. Он тоже был янки, из Новой Англии, а кому уж на Юге не известно, что это за люди! Мастера вколачивать нас в гроб, и бич пускать в ход мастера, — так исполосуют тебе спину, что она у тебя как стиральная доска станет! Хозяин сперва за меня заступался, но, на мою беду, хозяйка и это пронюхала и принялась совсем меня со свету сживать — что, бывало, ни сделаю, за все попадало!
Сердце Тома воспылало ненавистью… к жене плантатора, разумеется. «Если бы эта дура не совала нос, куда не следует, все было бы хорошо», — злобно подумал он и смачно выругался.
Ослепительная вспышка молнии на мгновение рассеяла полутьму комнаты, и Роксана заметила искаженное гневом лицо Тома. Радость охватила ее — радость и благодарность: значит, сын еще способен пожалеть свою тяжко обиженную мать и возненавидеть ее обидчиков, — а она-то в нем сомневалась! Но радость вспыхнула и тотчас погасла. «Он же продал меня в низовья реки, — напомнила себе Рокси, — значит, нет в нем жалости, это он только сейчас на минутку!»
— Ну вот, дней десять назад я и подумала, — продолжала Рокси прерванный рассказ, — что долго не протяну, издохну от работы, запорют меня до смерти. И так мне все опостылело, такая я была несчастная, что ничего уж мне не хотелось. Чем так жить, лучше в могилу. Ну, а уж если такие мысли приходят, тогда пропади все пропадом. Была там на плантации одна девчушка черномазенькая, годочков десяти, хиленькая такая, сирота, без матери; привязалась ко мне, полюбила меня, и я ее тоже. В тот день приходит она туда, где я работала, и сует мне кусок жареного мяса — свой отдала, знала, что надсмотрщик совсем меня голодом заморил, — а он тут как тут и хвать ее палкой по спине, а палка у него толстенная, как от метлы. Девчонка как закричит благим матом и повалилась на землю, корчится в пыли, как паук, когда его раздавят. Тут уж я не стерпела. Давно накипело у меня на сердце, выхватила я у надсмотрщика палку и раз-раз его по голове! Он упал, воет, клянет меня на чем свет стоит, а все негры вокруг столпились и дрожат от страха, вроде бы помочь ему собираются. А я — скок на его лошадь и — к реке. Понимала, что мне за это будет. Подымется — забьет меня насмерть, а если хозяин не даст меня бить, тогда продадут меня еще дальше вниз по реке — опять беда! Утоплюсь, думаю, раз и навсегда избавлюсь от всех своих бед. Уже вечерело. За две минуты я прискакала к реке. Вижу, у берега лодка, — всегда, думаю, успею утопиться-то. Привязала лошадь к бревну, вскочила в лодку, оттолкнулась от берега и гребу вниз по течению, вдоль высокого берега — там темнее. Дай бог, думаю, чтоб ночь поскорее настала! Пока тебе везет, Рокси: хозяйский дом от реки далеко, за три мили, а ездят у нас на рабочих мулах, и ездят ведь наши, негры, они-то не станут спешить, дадут мне уйти. Да и пока еще доберутся до дома и потом сюда, будет ночь, значит лошадь до утра не найдут и до тех пор не догадаются, куда я делась, а каждый негр будет врать им по-своему.
Совсем стемнело, а я все гребу, гребу уже часа два, а то и больше. Теперь уж мне было не страшно. Я бросила весло; лодка моя сама плывет, а я сижу и размышляю: что ж буду дальше делать, коль не утопилась? Кое-что придумала и перебираю разные планы в голове. Было уже наверняка за полночь, я отплыла миль пятнадцать — двадцать от плантации, никак не меньше. Вдруг вижу возле берега пароходные огни. А там ни города, ни пристани не должно вроде быть. Небо все в звездах… и вдруг, — что ты думаешь, — знакомые трубы! Господи, радость-то какая, это же «Великий Могол»! Восемь лет я на нем проплавала горничной от Цинциннати до Нового Орлеана! Тут я на своей лодочке проскользнула мимо, никто меня и не заметил; слышу — в машинном отделении стук молотков, значит что-то у них испортилось, вот почему и стоянка. Вылезла я на берег, а лодку пустила дальше плыть, подкралась к пароходу, вижу: одна сходня спущена. Поднялась я на борт. Жарища страшная, все матросы развалились прямо на палубе вокруг полубака и спят, а на мостике — младший помощник, Джим Бэнгс, свесил голову, глаза закрыты, — видали, как младшие помощники несут капитанскую вахту?! И сторож, Билли Хэтч, тоже дрыхнет возле трапа. Все мои старые знакомые. Ох, и обрадовалась же я, милые вы мои, хорошие! Ну, думаю, старикашка хозяин, попробуй сунься, никто меня отсюда не отпустит, тут все друзья! Прокралась я мимо них прямо на корму, в дежурку для горничных, присела на скамейку, где небось миллион раз до того сиживала, и сразу как в родной дом попала, — понимаешь?
Прошел, верно, час, слышу сигнал к отплытию; начинается суета. Потом гонг. Это значит: «Правое колесо задний ход», — я всю эту музыку назубок знаю. Снова гонг. Я шепчу: «Левое колесо передний ход». Третий раз гонг. А это: «Правое колесо стоп». Потом еще четвертый: «Правое колесо передний ход». Значит, мы идем к Сент-Луису, и никто меня теперь не схватит, и не к чему мне уже топиться! Я-то еще раньше слышала, что «Могол» делает теперь рейс до Сент-Луиса. Уже было совсем светло, когда мы прошли мимо нашей плантации, и на берегу я увидела много рабов и белых, они там каждый кустик обшаривали: это я им задала работу, — а мне-то что, пускай!
Тут как раз вышла на дежурство Салли Джексон, — когда я работала, она была у меня помощницей, а теперь уже сама стала старшей горничной. Она мне очень обрадовалась, и все начальство тоже обрадовалось. Я рассказала, что меня украли и продали в низовья реки, и они собрали мне двадцать долларов, а Салли подарила хорошее платье. Как только мы приехали сюда в город, я сразу пошла в тот дом, где ты раньше останавливался, а оттуда — сюда; а мне говорят, ты уехал, но со дня на день должен воротиться. Ну я уж и не поехала в Доусон: боялась разминуться с тобой.
А в прошлый понедельник прохожу я по Четвертой улице, мимо одной из этих контор, где принимают объявления о беглых неграх и помогают их ловить, и, как ты думаешь, кого я там вижу? Моего хозяина! У меня со страху ноги подкосились. Он ко мне спиной стоял и разговаривал с каким-то человеком, и я видела, что он давал ему такие листки, какие развешивают, когда сбежит негр. А этот негр — я. И он за меня награду обещает. Верно я поняла?
Том слушал ее, и леденящий страх сжимал его сердце. «Как ни поверни, пропал я! — подумал он. — Ее хозяин сказал мне, что вся эта сделка кажется ему теперь подозрительной. Он получил письмо от какого-то пассажира с «Великого Могола», тот написал ему, что ехал сюда вместе с Рокси, и все на пароходе знали ее историю; потому хозяин думает, что, раз она бежала сюда, а не в свободный штат, значит я тут тоже замешан, и если я не найду ее и не верну ему в самый короткий срок, то он притянет меня к ответу. А я еще не хотел ему верить, не мог допустить, что материнский инстинкт изменил ей и она явится сюда! Ведь понимает же она, в какую я могу попасть беду. И вот вам — она и впрямь тут как тут! А я-то дурень, дал слово помочь ему разыскать ее, я же был уверен, что меня это ни к чему не обязывает. Если я рискну сдать ее теперь хозяину, тогда… но какой же у меня еще выход? Я вынужден это сделать, иначе он потребует с меня деньги, а где я их возьму? Я… я… что ж, ведь она сама сейчас говорила, что он хороший человек; если бы он побожился, что будет справедливо обращаться с ней, не даст изнурять ее работой и морить голодом…»