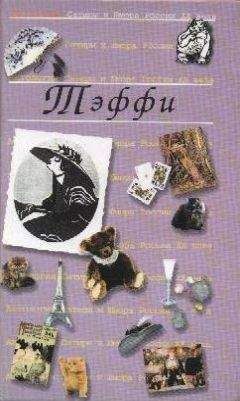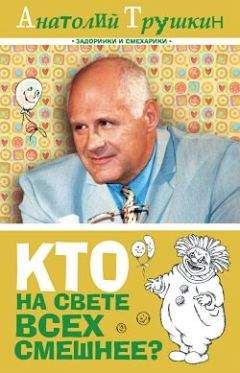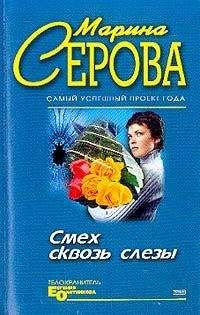Валерий Попов - В городе Ю.: Повести и рассказы
Конечно, Высочанский тоже не виноват — ему еще в ранней молодости больше удавалась борьба, нежели созидание, и каждый выбирает то, что ему удается. И все мы помогали ему. У нас в России уважают борцов. И я всегда уважал. И остальные. Ну, раскидал студент на территории верфи, где практику проходил, листовки, призывающие не праздновать день Великой Октябрьской революции. Ну, раскидал и раскидал. Так нет — сам директор завода лично занялся им, на суде обвинителем выступал! Главное, директор завода, крупный, талантливый кораблестроитель — и на суд пошел, время выкроил, тайно мечтая на один уровень значительности встать: ему, известному человеку,— со студентом-недоучкой, который сразу же выше нашего директора взлетел, заслуженного строителя, члена-корреспондента и т. д. Зачем это было нужно ему? Чтобы со студентом сравняться! Абсурд — только в России возможный! Сколько бы Высочанскому кряхтеть пришлось, чтобы все баллы набрать, как наш Ефименко? А так — бац — и он даже выше! Все революции от этого и проистекают: кому охота шестнадцать классов чиновничьих поочередно проходить, а так — бац — и ты губернатор! Ну, не праздновал бы годовщину Октябрьской — и все. Ан нет!
И главное — должен был Ефименко сообразить: у нас в России он эту борьбу проиграет стопроцентно! Директором, может, и останется (и остался!), но борец с ним все равно выше его взлетит, у нас в России иначе не бывает, так зачем надо было свое высокое плечо ему подставлять?! И вот результат — приезжает закрывать нашу контору, с директорской плеши взлетев!
Вся беда нашей жизни в том, что не хватает в России умных консерваторов. Не модно это. Борцом — моднее. Демократам легче — они вестники будущего, они обещают только «завтра» (а «завтра», как известно, не существует — только «сегодня»). А умному человеку, да еще о своей репутации заботящемуся,— вдруг консерватором стать, говорить, что «сегодня» можно что-то сделать? Зачем? Позорно даже. Ясное дело — кому может нынешняя реальная жизнь понравиться? Фи! Лучше немедленно отмежеваться от нее! В «завтра» звать!
— …Вы когда уезжаете?
— Сегодня на «стреле»!
— Сегодня? Странно! А я почему-то думал — завтра.— Вы думаете… с Кошкиным… самое плохое? — наконец выговорил он.
— Да!
…Больше всего в этой истории мне не понравилось то, что Кошкин, падая, ударился о бакен головой. Случайность — самое опасное, что есть. Именно через случайности и прокрадывается все чуждое тебе, именно через случайности и смерть прокладывает свой путь, презрительно отвергая и как бы даже не замечая пути нашего. Плевать ей на наши сюжеты. Она сама — сюжет!
Наивно думать, что можно использовать ее в своих целях, командовать ею и даже сказать с ее помощью что-то свое! Никогда! Играться — можно, пока ее нет, но, когда она есть, ты — в ее сценарии, как правило, никому не понятном! И все непонятные, неожиданные случайности на самом деле — ее твердая поступь!
Все телефоны Кошкина, включая самые конспиративные, не отвечали. В связи с этим все больше как-то меня настораживало, что Гурьич на яхте до рассвета искал. Если бы думал, что Кошкин выплыл,— поиск только бы изобразил.
Вообще не так давно было дело — Кошкин из-за одной несусветной красавицы стрелял в себя. Работала она в какой-то иностранной конторе… Керолайн! Трудно тут не потерять голову, вот Кошкин и потерял. И однажды, уходя от нее, забыл у нее кейс с тактико-техническими данными! Прибегает через час. Керолайн, нагло покуривая, говорит, что все листы уже по факсу передала куда надо. Кошкин тут же вышел в сквер под ее окнами и застрелился! И надо сказать, что наша «Пиранья» здорово после этого на международном рынке пошла. Из-за ерунды человек стреляться не станет! Потом, к сожалению, «Пиранья» не такая уж мощная оказалась, как написано было в тех бумагах. В каких, впрочем, тех?
Через месяц мы с Керолайн случайно в «Клуб-дипломатик» зашли и буквально обомлели: Кошкин с какими-то мулатками отплясывает! Элементарная операция, называется «Ванька-встанька»,— обычно все четко по плану шло. А сейчас?
Неужели вопреки известной пословице сначала было фарсом, а повторилось — трагедией?
Уж сколько раз доказывали ему: все кончено! Послушно ложится, а через секунду — стоит, покачиваясь: «Забыл — что кончено-то?»
— Не бегите по эскалатору, не задерживайте отправления поезда!
Выскочил на метро «Пионерская». Где-то тут чугунные пионеры стояли. Убрали?
Если кто и мог его по-настоящему погубить — то только ОНА, чугунная пионерка!
Помню период страстной его любви: мы стояли на базе Гаджиево, а она в Североморске библиотекаршей была. Отсюда и не понять вам, как это далеко. Но это и разжигало. Нашему человеку только и подай что-нибудь недоступное. Тут рядом — нормальные были. Так нет: «Иду к ней!» — «Как?» — «Вот так!» Надевает обычный армейский полушубок. «Первый же патруль заберет!» — «Мне сказали — вездеходный!» — Кошкин с гонором говорит… И потом рассказывал, как шел. Полярная ночь. Северное сияние. Вдруг — патруль, озверевший от мороза. «С-стой!» Кошкин протягивает им свое скромное удостоверение. Те даже повеселели от такой наглости: «И все?» Вдруг начальник патруля лезет в карман кошкинского полушубка, выворачивает его — там какой-то черный штемпель. Цифры какие-то, буквы, к тому же размазанные. Начальник патруля вгляделся — и буквально оцепенел. Потом откозырял. «Ради бога, простите!» И так Кошкин и шел. Навстречу новому патрулю прямо заранее выворачивал карман: «Смир-рна!» Потом даже самосвал карманом остановил.
Такой был человек!.. Неужто — «был»? Так. Улица Степана Уткина. Тормози!
Я подошел к дому, поднялся по лестнице, позвонил.
Валя, бывшая первая красавица гарнизона, стояла в дверях.
Помню, как все возвышенно было у них. Может — излишне возвышенно? Дом их поначалу задуман был, как островок свободы, как место без вранья. Страшный эксперимент!
— Свобода приходит нагая! — с упоением Кошкин декламировал.
Д-а-а… «Свобода приходит нагая». Но уходит — одетая!
«Давай поглядим друг другу в глаза!»
Долго с ним пытались это сделать, но не смогли.
После Севера и Абу-Даби мы вместе три года на Ладоге служили, жили в одной деревянной избе, в двух больших, почти без мебели комнатах, топили печь…
Почему-то осталась в памяти картинка: низкое красное солнце светит в большую кухню. Их маленькая дочка, нажимая ручонкой, топит в тазу обрывки газеты. Почему-то любимое ее занятие было тогда. Где теперь та кухня и где дочь?
Странная была тогда жизнь, вроде бы переходная откуда-то куда-то, но теперь вдруг вспоминается как самая счастливая.
Ладога! Пора надежд! В июле — снег. Вьюга помыла окна.
Первая фраза их дочки: «Какое снежное лето!»
А сколько друзей было там! Больше так не было никогда… Друзья-коллеги, агрономы-луководы, колхоз «Легкий путь», великий селекционер Клыхнин: «Я на пороге открытия! Мои ученые бараны (с мешком под хвостом) срут больше, чем жрут!»
Наша секретная база, на которую то и дело забредали ягодники, грибники.
Скромные трибунки в глухом лесу, с которых партийные руководители уговаривали лосей, кабанов и прочную живность сдаться им…
Дело мы имели, в основном, с металлом, но неожиданно из нашей суровой повседневной работы явилась вдруг абсолютно неучтенная белоснежная яхта «Венера» из стеклопластика!
Кошкин на партийном собрании:
— …Как я мог? Как я мог?!
По тайной нашей договоренности с ним я против него общественным обвинителем выступал. Голос общественности всегда для меня был как родной.
— Как ты мог?!
Кошкин:
— Как я мог? Как я мог?!
В конце концов даже наш главный коммунист Сероштан не сдюжил.
— Ладно,— гаркнул,— значит, мог, коли сделал!
В это время уже гуманизм начинался, всяческая перестройка, разрядка. Американские врачи приглашали к себе в центр по излечению от алкоголизма: вся разнарядка почему-то, минуя штатских, к нам была спущена. Сероштан Кошкина вызвал (универсальный кандидат):
— Эт-та… ты за месяц от пьянки сможешь излечиться?
— А за сколько надо?
— Я т-тя спрашиваю: не за скока надо, а за скока можешь?
— За скока нада, за стока и смогу!
Тут даже Сероштан вспылил:
— Есть у тебя вообще что-то святое?
Кошкин резонно ответил:
— Ну, не пьянка же?
— Отвечай — алкоголик аль нет? — Сероштан, потерявший терпение, по-партийному кулаком грохнул.
— Как потребуется! — четко Кошкин отвечал.
В таких вот задушевных беседах годы и шли. Кошкин подрабатывал еще подпаском, на звероферме шкуры сдирал. Однажды в пьяном угаре накинулся на кабана.
Но почему-то не нравилось ему все это, решил боксом оттуда выбиться — провел двести боев, и все неудачно.
— Надо бороться, вырываться отсюда! Ты что?!