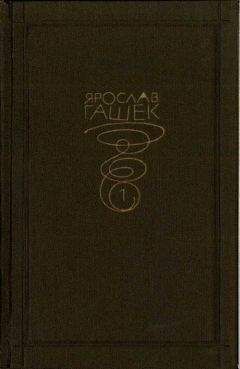Ярослав Гашек - Собрание сочинений. Том третий
Пана Петишку приговорили к тринадцати месяцам строгого заключения. Его, собственно, полагалось посадить на пять лет, но смягчающим обстоятельством было то, что он когда-то сражался за Австрию под Кустоцей.
А свертки с портретами государя императора хранятся где-то в архиве военного суда в Терезине и ждут часа освобождения, когда после ликвидации Австро-Венгрии предприимчивый бакалейщик станет заворачивать в них селедки.
Итог похода капитана Альзербаха
Утром 16 июня пан капитан Альзербах вылез из своей берлоги в окопах с тяжелой головой. Зашагав по окопу, он разразился своим привычным: «Собаки, свиньи, свинья, собака, свинья, собака!» — но вдруг поперхнулся и умолк.
Голос его как-то странно и грустно раздавался в необычайной тишине. Солнце стояло высоко, но над окопами простерлась загадочная тишина.
Капитан Альзербах установил, что окопы пусты. Вокруг валялись винтовки, штыки в ножнах, мешки, одеяла, и всюду, куда ни глянь, земля была усыпана неотстрелянными патронами. Брустверы были истоптаны, и все говорило капитану: здесь что-то неладно.
За одним из брустверов валялся труп капрала Франка, который так славно пинал солдат ногами. В руке Франк еще сжимал револьвер, а в груди его торчал австрийский штык — чтобы не было сомнения, кто именно так удачно пришпилил его к земле.
Капитан Альзербах задумался. У него после вчерашнего гудела голова, и соображал он очень медленно. Какая-то пустота была под его лысым черепом.
Значит, вчера был день рождения эрцгерцога Фридриха. Личному составу прочитали особый приказ, что по случаю этого дня надлежит помянуть все геройские подвиги дивизии. Солдатам роздали дешевый ром, а для господ офицеров прислали ямайский.
Потом капитан Альзербах приказал еще связать ненавистного Павличка за то, что тот при чтении указанного особого приказа отогнал рукой осу, которая собралась сесть ему на нос.
Вообще вчера был один из прекраснейших дней на фронте, озаренный мыслями о славном дне рождения и ромом.
В восемь часов вечера капитан Альзербах слышал как будто канонаду. К этому времени он влил в себя уже полторы бутылки рому.
В девять вечера он приказал петь «ich hab’ einen Kameraden»[36] и открыл огонь залпами по русским окопам. В десять он видел уже зеленых чертей и оборвал телефонный провод, запутавшись в нем ногами.
Вскоре после этого денщик в темноте наступил ему на руку, что уже не могло разбудить капитана. Он спал как колода, уткнувшись лицом в солому.
И вот теперь такое разочарование: солнце высоко в небе, окопы пустые, и капрал Франк, приколотый к земле.
Постепенно капитан начал понимать: он знал, что такие вещи могут случиться на войне. Неприятель обходит позиции, и все попадают в плен.
— Himmel herzgott[37], — плюнул капитан среди этой ужасной тишины. — Пусть я болван, но только ради бога объясните мне, как же это случилось? Ведь я со своим батальоном занимаю запасные позиции?
Никто ему не ответил, окружающая природа лишь безмолвно подтверждала, что сегодня все возможно.
Капитан Альзербах вылез из окопов, чрезвычайно обеспокоенный великим покоем, царившим вокруг.
Сзади где-то горела деревня, и издали доносились глухие разрывы.
Он стоял тут как единственный в этих местах носитель серого австрийского мундира. А повсюду по холмам, впереди и сзади, двигались колонны русских, всюду были люди в русских гимнастерках…
Капитан Альзербах понял, что он поглощен этим прибоем, и невольно поднял руки.
И вовремя: на опушке березовой рощи показался казачий разъезд.
Казаки подъехали к нему, и капитан Альзербах очень удивился, что они не забирают его и не хотят сопровождать. Он догадался, что не представляет интереса для них и что ему велят самому идти вперед: пусть так и идет, все прямо, прямо, а там уж найдется какая-нибудь тыловая часть. Мы взяли в плен четырех генералов, а капитан — мелочь, ради него не стоит возвращаться, сам дойдет.
Капитан Альзербах шагал как заведенный. Шел он по широкой равнине с березовыми рощами. По этой самой равнине должна была пройти австрийская армия… И его батальон должен был внести свою долю усилий в общую победу.
Но сейчас его батальон в плену, а сам он, жалкий, одинокий, тащится за ним следом.
Мимо него шли русские полки, ехала артиллерия, и никто не обращал на него внимания.
Только в одной деревне к нему обратился какой-то пленный венгр, который тоже отстал от своих. Капитан не понял ни слова и приказал венгру заткнуться, на что венгр возразил: «Nem tudom»[38] и продолжал лопотать.
Дальше капитан опять пошел один, потому что венгр занялся попрошайничеством у русских солдат, остановившихся на привал.
В ложбинке у дороги капитан наткнулся на группы отдыхавших пленных немцев. Он присоединился к ним, и пруссаки встретили его словами: «Wir kennen unsere Österreicher» — знаем мы наших австрияков!
Всю дорогу он выслушивал от них приятные вещи. Пруссаки сваливали всю вину на Австрию, а когда капитан Альзербах сказал им, что это они все начали, один гвардеец глянул на него так грозно, что капитан умолк.
Постепенно спустился вечер, они пришли в какую-то деревню, и капитана Альзербаха повели к тыловому начальству на допрос. Он никак не мог вспомнить, какой полк стоял слева от него в запасе. Тогда ему сказали, что двадцать пятый. Он удивился, как это они все знают, и в свое оправдание пробормотал, что был пьян.
Потом ему сообщили, что их батальон ночует в сараях и что его отведут к его людям.
Так капитан Альзербах снова встретился с ненавистным Павличком, которого вчера приказал связать. При виде своих солдат капитан ощутил, как с него спадает все то, что делало его таким тупоумным в течение целого дня.
— Собаки, свиньи, свинья, собака! — заорал он по привычке, войдя в сарай; его люди еще не спали.
Сквозь открытую дверь в сарай лился лунный свет; в этом свете с соломы поднялся и подошел к капитану рядовой Павличек. И капитан Альзербах почувствовал вдруг, что его ударили, и понял, что получил по морде и в другой раз и в третий.
Это были великолепные затрещины. Ими Павличек воздал за все, что он вытерпел от капитана во время похода с маршевым батальоном от Самбора до Буковины. Тут стали подниматься и остальные, один за другим они подходили к капитану, раздавались шлепающие звуки, и солдаты опять молча укладывались на солому.
Только Камноушек из одиннадцатой роты, отвесив капитану две оплеухи, произнес:
— Gott strafe England[39].
Это было любимое изречение капитана.
Капитан Альзербах был до того ошеломлен всем этим, что некоторое время постоял, словно дожидаясь, не ударит ли еще кто; но ничего больше не последовало, и он тихо вышел из сарая.
Физиономия у него вспухла донельзя, и он не в состоянии был постичь, что же, собственно, произошло, и только смутно догадывался, что плохи дела Австрии, если уж капитану нельзя сунуть нос в сарай, чтоб ему не набили морду свои же солдаты.
Позднее при обыске у капитана Альзербаха нашли записную книжку, где значилось следующее:
«16 июня 1916 года, Бардейов. Получил от Павличка, Кнура, Косалы, Галасека по три пощечины. Криблер, Везна, Гулата, Робес, Моучка, Сырак, Кополецкий ударили меня по два раза. Кхоль, Барак, Бездега, Брабец, Спатенка, Длоугий, Ржегак, Затурецкий и Зыкан — по одному разу. Остальные солдаты меня не били, потому что находились в других сараях».
Таков был итог похода капитана Альзербаха.
По стопам полиции
Это случилось перед одним из приездов в Прагу императора Франца-Иосифа с высокой целью постучать молотком по камню на закладке одного из строящихся мостов. В чешском вопросе старый монарх специализировался исключительно на мостах. Приедет, бывало, постучит по камню и глубокомысленно заметит:
— Интересно, что этот мост идет с одной стороны реки на другую. — Да еще прибавит: — Меня чешит, что вы техи (вместо: «меня тешит, что вы чехи»).
После такого посещения у всего чешского народа создавалось впечатление, что этот старый господин разбит параличом.
В эти высокоторжественные дни пражская полиция развивала свою деятельность в самом широком масштабе и арестовала в трактире «У двойки» старого хромого гармониста Кучеру, который лет тридцать назад отправился пешком из Праги в Вену и там при проезде императора бросился под ноги лошадям, везущим императорскую карету. Он надеялся таким способом добиться аудиенции: его преследовала идея фикс, что ему должны выдать разрешение торговать в табачной лавке в награду за то, что итальянская пуля у Кустоцы прострелила ему ногу.
Но вместо табачной лавки ему в административном порядке присудили пять суток ареста, а затем целый месяц исследовали его психическое состояние в одной из венских психиатрических клиник и одновременно вели следствие, переписывается ли он с подозрительными лицами, живущими за границей. Когда выяснилось, что Кучера не умеет писать и психически совершенно здоров, его отправили в этапное управление, а отсюда уже он вернулся по этапу в Прагу, где в память о своей неудавшейся аудиенции у государя императора сложил такую песню, исполнявшуюся им под гармонику: