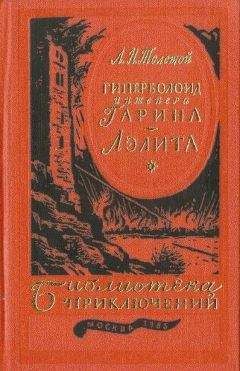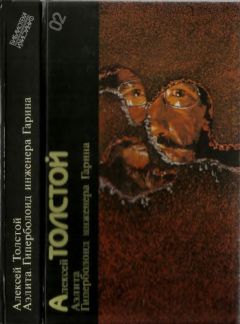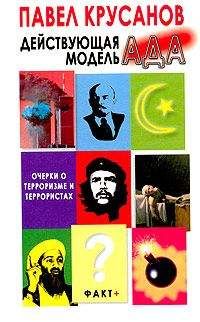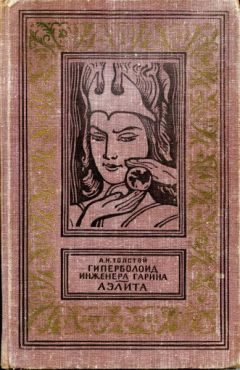Павел Маляревский - Модель инженера Драницина
Начинало светать. Коротыш хотел нащупать чемодан. Рука его скользнула по шероховатой коже сиденья. Чемодана не было.
— Федор, — крикнул он, стуча в стенку, — Федор.
Шофер остановил машину.
— Федор, чемодан исчез.
Высокий зло сверкнул глазами.
— Вы круглый идиот, — крикнул он, выскакивая на подножку.
— Понимаешь, вздремнул, открылась дверца и, очевидно, выпал.
— Жаль, что не вы, а чемодан вылетел, — процедил высокий.
— Может быть, вернуться, — посоветовал коротыш.
Над лесом тяжело тащился рассвет.
— Чтобы нас поймали. Покорно благодарю. Мне голова дороже. — Он помолчал и резко добавил. — Едем. Только я сяду сюда, — и высокий бесцеремонно вытолкнул на подножку толстяка.
Автомобиль понесся дальше.
— Человек важнее модели, — сентенциозно пробурчал высокий, усаживаясь поудобней.
В эту ночь путевой сторож Николай Сидорович Фукин возвращался с именин брата. В голове весело шумело. В небе качались звезды, и лес по бокам проселочной дороги гудел как-то по-особому — понимающе.
— Я и говорю ему: кака така колхозная жизнь, — философствовал Николай Сидорович, нетвердо шагая по луже. — Нет, ты мне мозги не верти, ты прямо сказывай — в чем есть коллектив. Скажем, к примеру...
В это время мимо, оглушительно фыркая, пронесся автомобиль.
— Эки дела, — испуганно отшатнулся отрезвевший на миг сторож. — Машина в таку пору...
Постоял, подумал, пошел.
— Вот, к примеру, машину взять, — продолжал он успокаиваясь. — О ней тоже надо понятие иметь. Хитрая штука; скажем, винтик самый, что ни на есть махонький, а она без него — стоп. Вот я и говорю, ежели, говорю, заведется в колхозе какая ни на есть гнида, так коли ее не вытравишь — стоп колхоз. Или человека взять. Что есть человек?
Сторожу стало грустно. Почему-то хотелось плакать. А лес понимающе шумел. У-у-у-у-у. Николай Сидорович всхлипнул, хотел что-то сказать, но запнулся и полетел в грязь.
— Не везет, — говорил он, сидя в грязи, — я ж говорю, что не везет. — И вдруг руки его уперлись во что-то гладкое. Сторож обшарил предмет руками.
— Да, никак, чемодан.
Он снова отрезвел и, взяв чемодан за ручку, почти бодро направился к дому.
Над лесом тяжело тащился рассвет.
Шли дни и недели. Волновались люди, выстукивали аппараты Морзе, приглушенно звонил телефон. Люди читали телеграфные распоряжения, давали указания.
Неслись поезда, увозя пакеты с сургучными печатями и надписями «совершенно секретно».
Всхлипывала в своей квартире Женя, не зная куда пропал муж, и часто думала о фасоне нового траурного платья — гладкое или нет?
Пряча в карман телеграмму «Проводили Ваню. Ждем», человек с лицом, словно из фарфора, улыбался довольно.
Девушка с каштановыми волосами спрашивала, приходя поздно вечером домой: «Есть ли письма из Энска», — и неизменно получала в ответ: «Нет, не приносили». Тогда она недоумевающе по-детски морщила лоб и ей было грустно.
Сторож Николай Сидорович Фукин каждодневно пропускал поезда, и ветер задорно играл зеленым флажком.
Люди волновались, терялись в догадках.
Но инженера Драницина не было. Он стал именем, шифром, содержанием бумаг, телеграмм, разговоров.
Часть вторая
ПОГОНЯ ЗА МОДЕЛЬЮ
Глава I
СЛУЧАЙ НА ТРАНСПОРТЕ
На станции Энск оживление. По перрону ошалело бегут пассажиры. Мелькают неуклюжие чемоданы, серые мешки, желтые деревянные баулы.
Дежурный, проходя по перрону, выкрикивает:
— Поезд номер семьдесят восемь, стоянка двадцать минут.
— Ах ты господи, только бы успеть, — бормочет женщина в сбившемся набок платке. В руках у нее по чемодану, а на спине висит туго набитый холщовый мешок.
Следом за ней, сгибаясь под тяжестью багажа, идут еще две женщины помоложе. В зубах у них билеты.
Проводник, ленивым взглядом окинув багаж, говорит:
— Не пущу. Вещей больно много. В багаж надо сдавать.
Женщина постарше обалдело смотрит на проводника.
— Да рази так можно, да много ли вещей-то у нас, — говорит она захлебываясь и обращаясь то к проводнику, то к спутницам.
— Подумаешь, каки таки вещи, так, видимость одна, — вторят ей товарки.
Проводник взглядывает искоса и, сплюнув, цедит сквозь зубы:
— Деревенщина.
— Да чего вы стоите-то? — остервенело кричит та, что постарше.
— Чего на него смотрите-то? Лезь.
Женщины хватают багаж и бестолково лезут в вагон, но проводник быстро захлопывает дверь.
— Но-но, не лезь, это вам не постоялый двор.
Все трое растерянно смотрят на вагон и на груду багажа.
А дежурный выкрикивает.
— Поезд номер семьдесят восемь, отправление через пять минут.
Над фронтоном вокзала висит белый круг циферблата. Стрелки показывают без пяти восемь.
Женщина постарше подходит к проводнику и что-то шепчет ему на ухо.
Проводник слушает рассеянно. Наконец машет рукой и роняет:
— Ну ладно уж, лезьте.
Он отходит в сторону и, пряча в карман пятирублевку, бормочет, презрительно выпятив губу.
— Эх, бескультурность наша.
Пассажирки бестолково лезут в вагон.
Через минуту ударяет колокол, раздается пронзительный свисток и поезд медленно отходит. Женщины раскладывают багаж.
— Откуда вы, тетя, едете? — осведомляется пожилой мужчина, макая сахар в чай.
— А из Тулы.
— А зачем в Тулу ездили?
Тетя Паша, так зовут женщину постарше, тщательно рассовывает вещи по углам.
— Да вот детишкам кой-чего из одежонки прикупить надо было. Ну и поехали.
— А много, должно быть, у вас детишек, — раздается сверху хрипловатый голос.
Тетя Паша испуганно озирается. С верхней полки свешивается всклокоченная голова и искоса смотрит на открытый чемодан, в котором лежит пара новеньких с иголочки костюмов, а под ним рядами уложены груши.
Тетя Паша торопливо захлопывает крышку чемодана и толкает чемодан под полку. А он, как назло, не лезет.
Пассажир, не дождавшись ответа, вытягивается на полке.
Он лежит, не слезая, второй день. Вчера ночью у него украли чемодан и деньги и теперь он почти ничего не ест и целый день валяется, подложив под голову старую помятую кепку.
Тетя Паша, кое-как растолкав вещи, сооружает из остатков некое подобие постели и, закрыв лицо грязной тряпкой, ложится отдохнуть.
Вечером женщины достали из мешка черствый, очевидно, еще домашний, хлеб и сели пить чай.
— Послушайте, — свесился с верхней полки пассажир. — Это же черт знает что такое. У вас из корзины какая-то гадость течет и прямо мне на подушку, — и он возмущенно машет кепкой.
Тетя Паша поджимает губы и, аккуратно положив на блюдце огрызок сахара, лезет наверх.
— Сливы, видать, потекли, — шепчет она, доставая корзину, аккуратно обшитую синей холстиной.
— Детишкам везем, — виновато говорит она пассажиру.
Тот сердито хмыкает и, ворча что-то под нос, переворачивается на другой бок, и долго слышит он сквозь сон, как старуха соседка наставительно говорит тете Паше:
— Она слива ягода нежная. Она покой любит. Ты ее, девонька, перебери и которая помягче — на пирог отложь.
Поздно вечером в вагоне начались разговоры. Одуревшие от скуки пассажиры рассказывали невероятные истории о кражах и убийствах, делились сведениями о том, где, что и сколько стоит.
Не принимал участие в разговоре только хмурый пассажир. Ему хотелось есть, но наконец и он слез с полки и сел против тети Паши.
— У меня тоже, знаете, случай был, — неожиданно обратился он к пожилому мужчине, взглядывая искоса на тетю Пашу. Ехали мы в передний путь, села к нам в вагон женщина одна. Вещей у нее не пересчитаешь. Ну, вроде, как у вас, — вскользь обратился он к тете Паше.
— Ну, едем день, другой, все чинно-благородно. И вдруг, представьте себе, приходит старший, усатый такой, вид строгий и говорит так внушительно. Вы, говорит, гражданка, ничто иное как спекулянтка и я, говорит, должен вас оштрафовать.
— И оштрафовал?— раздается испуганный голос женщины помоложе.
Тетя Паша поджимает тонкие губы и сердито взглядывает на соседку.
— В лучшем случае, — сказал он таким тоном, точно сообщил невесть какую приятную новость.
— Перевесили, знаете, у этой гражданки вещи, и оказалось у ней излишка шестьдесят килограмм и три четверти. Так за каждое кило с нее по пять рублей сорок копеек взяли.
Тетя Паша бледнеет.
— Это, значит, больше трех сотен потянуло, — задумчиво говорит пожилой пассажир.
— Бывает, вот, знаете...
Разговор идет по новому руслу. Рассказы о штрафах и задержаниях так и цепляются один за другим.
— А так им и надо, — сердито говорит хмурый пассажир. — Мне, знаете, их ничуть не жаль.