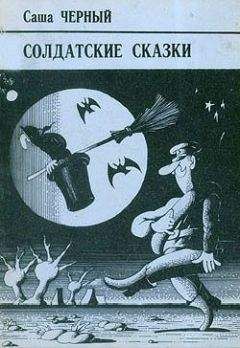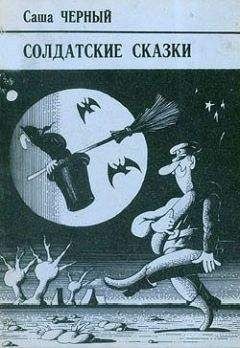Александр Гликберг - Солдатские сказки
– Да видал ли их кто, бабушка? Може, попритчилось кому с полугару? На сапог сам себе наступил, через портки перескочил да и ходу.
Обиделась баба, локтем пыль взбила, – натурально, старому человеку хрена в квас не клади.
– Воевать ты, сынок, воевал, а ум-от свой в лазарете под подушкой забыл. Сорока я, что ли, чтоб зря цокотать? Люди видали. Псаломщик, человек нечисти неприкосновенный, – при церкви на должности состоит, – в лес по весне сунулся хворосту собрать, и того захороводили. Средь белого дня лешие с ним в кошки-мышки играть затеяли… Он под куст, а лесовик его за штанцы, – он под другой, а там его не весть кто ореховым прутом по сахарнице. Гоняли-гоняли, как крысу по овину. Очумел он совсем, голосу лишился. Только на колокольный звон к вечеру на карачках продрался.
– А он бы им чего-нибудь на глас шестой спел, они б и отстали…
– Тебя не спросился! Каки там гласы, когда его в цыганский пот ударило; как шкалик называется, только на третий день вспомнил…
– Контузия, бабушка, по-военному это будет.
– Что пузо, что брюхо, – мясо-то одно. А кузнеца, свет мой, прикрутили к сосне, стали его на медные шипы подковывать. Да спасибо, догадался: через левое плечо себя обсвистал, да черным словом три раза навыворот выругался, – только тем и отшиб… С неделю опосля того на пятку ступить не мог.
Передвинул солдат фуражку козырьком к стенке, призадумался.
– Что ж у вас меры какие принимали?
Заахала тут старушка, раскудахталась:
– Принимали. Знахарь наш, Ерофеич, один глаз кривой, другой косой, – чай, сам его знаешь, – уж чего не делал… Первоначально тридцать три вороны поймал, черным воском им задки запечатал, да на опушке в полнолунье и вытряс. Крику-то что было! Опосля семи живым зайцам на хвост по жабьей косточке специально привязал, – да от семи осин, что на Лысой поляне растут, в разные стороны с наговором и спустил. Средствие верное! Собрали мы ему на винцо, на пивцо, а он к лесному озеру, бесстрашный пес, пошел раков на закуску ловить. «Теперь, – говорит, – дело крепко припаяно, ни на полшиша они мне беды не сделают!» Из дыма, вишь, веревку свил: лесовики пришлые, – военный крючок им не по мерке пришелся… Только это Ерофеич на бережку под ивой переобуваться стал, – глядь, сбоку самые матерые лешаки друг у дружки в шубе лесных клопов ищут. Икнул он тут с перепугу, а лешие к нему, да за жабры: «Ага, сват, сто шипов тебе в зад, – тебя-то нам и не хватало!» Сунули его головой в дупло, да как в два пальца засвистят, так раки к ним со всего озера и выползли… «Эвона, – кричат, – вам закуска! Вон он, знахарь, вороний скоропечатник, ножницы раскорячив, из дупла торчит… Дня на три вам, поди, хватит!…» Так бы и источили. Однако и знахаря голой клешней за пуп не ухватишь. Вынул он из-за пазухи утоплого пьяницы мозоль, – на всякий случай завсегда при себе носил. Добыл серничек, чиркнул, мозоль подпалил: дупло пополам, будто бомбой его разодрало. Самого себя, как свинью, опалил, – однако случай такой: на мягкой карете не выедешь… Дополз домой, все село сбежалось, – по всему телу у него синие бобы, будто ситчик турецкий… Вот и сунься! Грибами теперь у нас, хочь сам архиерей прикати, не полакомишься.
«Неладно, – думает солдат, – выходит! По городам, по этапным дворам, по штабам-лазаретам, и слухом о таких делах не слыхать. Порядок твердый, все как есть одно к одному приспособлено. Будь ты хочь распролеший, – в казенное место сунешься, – шваброй тебя дневальный выметет, и не хрюкнешь. А тут коренное русское село, в тихую глухомань этакое непотребство вонзилось…»
– Ну, а к батюшке, бабушка, обращались?
– Обращались, розан мой, обращались. Насчет лесной погани, – говорит, – это дело не мое. Один суевер ветку нагнул, другого по ушам хлестнуло, третий караул кричит. Серая брехня! Да и как вы к Ерофеичу обращались, пущай вас тот лекарь и лечит, который пластырь варил.
Обиделся, значит… Да вишь, брехня-брехней, однако ни попадья, ни ейные ребята тоже в лес и носу не кажут. А, небось, в былое время одной лесной малины в лето с куль насушивали… Стало быть, третий суевер караул кричит, а четвертый под поповской периной дрожит.
Видит солдат, что туго завинчено. Чей бы бычок ни скакал, а у девки дитё… Посмотрел он, как за колодцем тонкая рябинка мертвым рукавом по темному небу машет, тихим голосом спрашивает:
– А здесь в селе не наблюдалось ли чего? Случаев каких-либо специальных?
– Наблюдалось! Ох, наблюдалось!… Чай им в лесу, оголтелым, скучно, озоруют и здесь. То коноплю кой-где серый дух, тьфу-тьфу, узлом завяжет, то поросеночка над избой в трубу сунет… То калитку с погоста повивальной бабке на крыльцо приволокут. А намедни у учительши курица петухом запела, срам-то какой. Чай тоже и у учительши амбиция своя есть… В стародавние времена леший кой-когда в лесу с девушки платок стащит, а таких подлостей не производили. Видно, и лешие нынче, – откуль их нанесло, – тоже осатанели. Чистые фулиганы!… А вот еще случай был… Да ну тебя, сынок, к Богу, – не путем спрашиваешь, не ко времени отвечаю. Проводи-ка ты меня до избы, а то борону у плетня увижу, не весть что померещится… А все из-за вашей войны, будь она неладна. По небушку летают, солдатские газы пущают. Вот и дождались!
Доставил солдат Божью старушку по принадлежности. К своему крыльцу зашкандыбал, палочкой гремит, старушкины слова так и этак переворачивает. Что ж, ежели в сам-деле с прифронтовой полосы купоросным газом сволоту эту лесную нагнало, надо обратное средство найти. Ужель свое село так нечисти болотной и предоставить?…
В пустую кадку постучи, пустота и отзовется, – ан солдатская голова не без начинки, братцы… На заре, чуть ободняло, прокрался он задворками к бабке доказчице. Брякнул в оконце. Высунула она свое печеное яблочко наружу, как мышь из-под лавки.
– Чего, друг, гремишь? Окном не обознался ли? Ничего у меня старушки про вас, солдат, не припасено.
– А ты, мать, поищи, – найдется! Бочоночек самогону, ведра в два уважь, выкати. За мной не пропадет.
Всполошилась она, пискариком затряслась, – один глаз на церкву, другой вдоль улицы шарит:
– Да что ты, герой, окстись! Каки у меня самогоны? Окромя толокна да квасу, нет у меня и припасу. Солдат нос свой в горстку зажал, ухмыляется:
– Ты, бабка, не рассусоливай. Не урядник я! Для обчества, не для себя, стараюсь. Разговор-то наш вчерашний помнишь? Альбо сам пропаду, альбо лес наш по всей форме очищу… Да еще пакли дай, старая. Сруб у тебя новый ставили, авось осталось.
Засуетилась старушка, видит, дело всурьез пошло. Мырнула в подполье, – бочоночек выволокла, – жилистая была, лахудра. Вдвинул солдат добро на тачку, сверху паклей да коноплей для прикрытия забросал. Попер тачку по-за плетнями, аж колесо запищало. Час ранний, ни на кого не наскочишь… Правой ногой хромает, однако ж ему наплевать: суставы-то у него во как действовали…
Докатил до опушки, одежу с себя долой. Сел под куст в чем мать родила, смазал себя по всем швам картофельным крахмалом, да в пакле и вывалялся. Чисто как леший стал, – свой ротный командир не признает. Бороду себе из мха венчиком приспособил, личность пеплом затер. Одни глаза солдатские, да и те зеленью отливают, потому на голову, заместо фуражки, цельный куст вереску нахлобучил.
Вышиб он втулку, стал водку поядренее заправлять: махорки с полкартуза всыпал, да мухоморов намял, туда ж и запихал, да перцу горсть, да волчьих ягод надавил для вкуса. Чистая мадера!
Покатил он бочонок в чащу, палочкой подпихивает, козлом подрыгивает, сам пьяную песню поет:
А кто там идет?
Леший бородач!
А что ен везет?
Чёртов спотыкач!
Слышит – по орешнику будто ползучая плесень шелестит, с дуба на дуб не весть кто сигает, кудрявым дымом отсвечивает.
Докатил солдат выпивку свою до озера, остановился. Пот по морде ползет, глаза заливает, – а утереться нельзя, потому все лесное обличье с себя смажешь. Снял он со спины черпачок, что у самогонной старушки прихватил, бочоночек на попа поставил, застучал в донушко, – на весь лес дробь прокатилась.
С ветки на ветку, с ельника на можжевельник подобралась мутная нежить, – животы в космах да в шишках, на хвостах репей, на голове шерсть колтуном. Кольцом вкруг солдата сели, языки под мышкой, глаза лунными светляками. Один из них, попузастее, – старший, должно быть, потому у него светлая подкова на грудях висела, – хвост свой понюхал, словно табачком затянулся, и спрашивает:
– Ты, милачок, откудова прибыл?
– Для собственного ремонта с западного фронта, из Беловежской Пущи… У вас здесь погуще!
– А в бочонке у тебя что за узвар?
– Армейский спотыкач, ковшик выпил – дуешь вскачь. В гродненской корчме подцепил, да сюда прикатил.
Леший рот и расстегнул, а на животе у него, глядь, – второй рот распахнулся, да оба враз и зачмокали.
«Ловко, – думает солдат, – энто у них приспособлено!…»