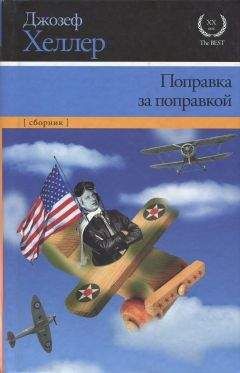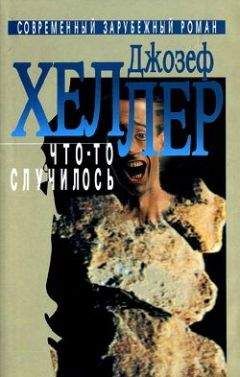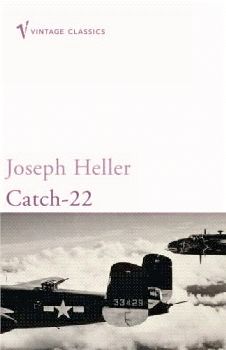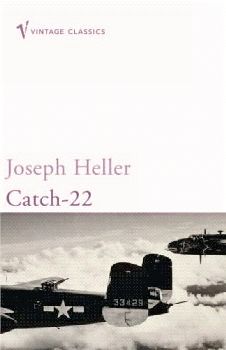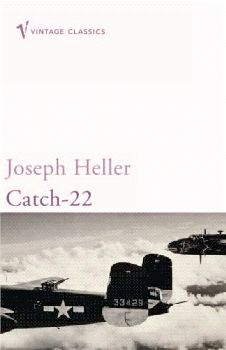Джозеф Хеллер - Поправка-22
Да и о каком порядке можно было говорить, если вокруг, по его наблюдениям, царил опаснейший беспорядок? Он ощущал острую тревогу, думая, помимо здоровья, про Тихий океан и летное время. За человеческое здоровье никто не мог поручиться надолго. Тихий океан, беспорядочное скопище зловещих волн, окружал со всех сторон берега, зараженные несметным количеством смертельных болезней, в самой гуще которых он рисковал оказаться, если б разгневал полковника Кошкарта, освободив Йоссариана от полетов. А летное время он должен был проводить на борту самолета, чтобы получать дополнительное жалованье. Доктор Дейника ненавидел самолеты. Он ощущал в полете полнейшую безысходность. На борту самолета, куда ни пойдешь, все равно останешься на том же самом борту. Доктор Дейника слышал, что человек, добровольно лезущий в самолет, просто поддается навязчивому желанию залезть обратно в материнское чрево. Он слышал об этом от Йоссариана, который помогал ему получать дополнительное жалованье без извращений с разными чревами. По просьбе Йоссариана Маквот записывал доктора Дейнику в бортовой журнал, когда они совершали тренировочные или транспортные полеты.
— Ты же все понимаешь, — льстиво, со свойским подмигиванием говорил доктор Дейника Йоссариану. — Ну зачем без нужды рисковать?
— Незачем, — соглашался Йоссариан.
— Да и какая разница, в самолете я или нет?
— Никакой.
— Вот-вот. Живи, как говорится, и жить давай другим. Сперва ты протянешь мне руку, потом я тебе. Согласен?
Йоссариан был согласен.
— Да нет, я не про это, — сказал доктор Дейника, когда Йоссариан протянул ему руку. — Я про руку помощи. Про взаимную выручку. Сперва ты мне поможешь, потом я тебе. Соображаешь?
— Так помоги мне, — оживился Йоссариан.
— Невозможно, — отрезал доктор Дейника.
Чем-то жалким и жутеньким веяло от доктора Дейники, одиноко сидящего день-деньской на солнцепеке возле своей палатки в летней форменной одежде — рубахе с короткими рукавами и шортах, — вылинявшей из-за ежедневных стирок, составлявших особую заботу доктора Дейники, до цвета стерильной, но сероватой от долгого хранения ваты. Он походил на замороженного однажды ужасом, да так и не оттаявшего потом человека. Горестный и нахохленный, с головой, ушедшей в птичьи плечи, он зябко поглаживал бледными ладонями — от плеч к локтям — сложенные на груди загорелые руки, и на пальцах у него тускло поблескивали холодные ногти. Но внутреннего тепла ему было не занимать: жаркая жалость к себе тлела в нем неугасимо.
— Почему именно я? — с горькой печалью вопрошал он, и вопрос этот звучал вполне здраво.
Йоссариан уважительно присоединил его к своей коллекции здравых вопросов, которыми он срывал общеобразовательные занятия, проводимые у них раньше два раза в неделю под надзором Клевинджера в палатке разведотдела очкастым капралом, про которого все знали, что он, видимо, подрывной элемент. Начальник разведотдела капитан Гнус знал это совершенно точно — а иначе почему капрал носил очки, произносил слова вроде панацея или утопия и поносил Гитлера, который сделал все возможное для истребления в Германии антиамериканской деятельности? Йоссариан посещал общеобразовательные занятия в надежде выяснить, отчего совершенно незнакомые ему люди только тем и занимаются, что норовят его убить. Народу на эти занятия сходилось не так уж много, зато вопросы были почти у каждого, причем вопросы по-своему вполне здравые, что и обнаружилось, как только Клевинджер совершил после первого же занятия серьезнейшую ошибку, спросив, есть ли у присутствующих вопросы.
— Кто такая Испания?
— Что еще вдруг за Гитлер?
— Какой такой козырь в Мюнхене?
— Как это левые справа?
— А ху-ху не хо-хо?
— Да ты чего нам тут порешь-то?
Все эти свидетельства здравой воинской любознательности сыпались на капрала в очках как из рога изобилия, пока Йоссариан не задал вопрос, на который не было ответа:
— А где сейчас прошлогодние Снегги?
Вопрос прозвучал убийственно, потому что Снегги погиб в прошлом году над Авиньоном, когда опсихевший Доббз вырвал у Хьюпла штурвал.
— Что-что? — словно бы не расслышав, переспросил капрал.
— Где сейчас прошлогодние Снегги?
— Мне, простите, не совсем понятно…
— Où sont les Neiges d’autan?[1] — повторил для пущей ясности по-французски Йоссариан.
— Parlez en anglais,[2] ради бога, — взмолился капрал. — Je ne parle pas français.[3]
— Я тоже, — отозвался Йоссариан, готовый допрашивать его на любых языках, лишь бы прорваться по возможности к истине, но в разговор поспешно вмешался Клевинджер — бледный, тощий, речь уже пресекается, а на малахольных глазах серебрятся крупные слезы.
В штабе полка тоже забеспокоились, потому что мало ли до чего могут люди доспрашиваться, если начнут задавать бесконтрольные вопросы. Полковник Кошкарт отрядил в эскадрилью подполковника Корна, и тот быстренько упорядочил непорядок с вопросами. Это был гениальный ход, как сообщил он в рапорте полковнику Кошкарту. По его инструкции право задавать вопросы получали только те, кто никогда их не задавал. Вскоре на занятия стали являться только те, кто имел право задавать вопросы, потому что никогда их не задавал. Из-за отсутствия вопросов занятия, как решили Клевинджер, капрал и подполковник Корн, потеряли смысл и были отменены, ибо у людей, которые отказываются задавать вопросы, невозможно повысить общеобразовательный уровень.
Полковник Кошкарт, подполковник Корн и все остальные штабисты, кроме капеллана, жили в здании штаба. Это был огромный, выстроенный из розового песчаника и насквозь продуваемый сквозняками старинный дом, который постоянно содрогался от гулко клокочущей в канализационных трубах воды. Рядом со штабом, стараниями полковника Кошкарта, оборудовали тир для стрельбы по тарелочкам, и полковник Кошкарт намеревался допускать туда только штабных офицеров, а генерал Дридл обязал весь личный состав полка проводить там не меньше восьми часов в месяц.
Йоссариан охотно стрелял по тарелочкам — и всегда мазал. А Эпплби всегда попадал. Со стрельбой у Йоссариана было так же плохо, как с игрой в азартные игры. Особенно на деньги. Он неизменно мазал и неизменно проигрывался. Он проигрывался, даже если мухлевал, потому что люди, которых ему хотелось обмухлевать, всегда мухлевали лучше, чем он. Для него давно уже не было тайной — и он покорно смирился со своей судьбой, — что хорошим стрелком и денежным мешком ему никогда не стать.
«Только человек с ясной головой способен не стать у нас денежным мешком, — вещал полковник Каргил в одном из своих поучительных посланий, предназначенных для распространения в боевых частях за подписью генерала Долбинга. — Любой дурак может стать сейчас денежным мешком, да так оно в большинстве случаев и происходит. А люди умные и талантливые? Назовите, к примеру, имя хоть одного поэта, который заработал бы много денег…»
— Т. С. Элиот, — сказал рядовой экс-первого класса Уинтергрин и повесил трубку. Он наткнулся на откровения полковника Каргила, разбирая почту в своей каморке при штабе Двадцать седьмой воздушной армии, где служил писарем.
Полковник Каргил был озадачен.
— Кто это звонил? — спросил генерал Долбинг.
— Понятия не имею, — ответил полковник Каргил.
— А что ему было нужно?
— Понятия не имею.
— А что он сказал?
— «Т. С. Элиот».
— Это что еще такое?
— Т. С. Элиот.
— Просто Т. С. Элиот?
— Да, сэр. Больше он ничего не сказал. Только «Т. С. Элиот».
— Что бы это, интересно, значило? — раздумчиво сказал генерал Долбинг. Полковнику Каргилу тоже было интересно.
— Т. С. Элиот? — с мрачным недоумением пробормотал генерал Долбинг.
— Т. С. Элиот, — замогильным эхом откликнулся полковник Каргил.
Генерал Долбинг немного помолчал, а потом елейно ухмыльнулся и встал. Лицо у него расцветилось утонченным коварством, а глаза озарились язвительным злодейством.
— Распорядись-ка соединить меня с генералом Дридлом, — приказал он полковнику Каргилу. — Да присмотри, чтоб ему не сообщили, кто его вызывает.
Полковник Каргил выполнил приказ генерала Долбинга, и на Корсике, в штабе генерала Дридла, раздался телефонный звонок.
— Т. С. Элиот, — сказал генерал Долбинг и повесил трубку.
— Кто это звонил? — спросил полковник Мудис.
Генерал Дридл не ответил. Полковник Мудис был его зятем, и он дал ему возможность подключиться к своим военным занятиям по просьбе жены, хотя делать этого, конечно, не следовало. Он глянул на зятя с устоявшейся неприязнью. Ему был отвратителен весь облик полковника Мудиса, который служил у него адъютантом, а поэтому всегда торчал на виду. Генерал Дридл возражал против брака дочери и Мудиса, потому что не любил свадебных церемоний. Озабоченно и сурово нахмурившись, он подошел к большому зеркалу и бросил взгляд на свое отражение. Перед ним стоял коренастый, в генеральской форме человек с агрессивной квадратной челюстью, тускло-серыми клоками бровей и седоватыми волосами. На лице у него отпечаталось тяжкое раздумье — он размышлял о таинственном телефонном звонке. Потом, осененный удачной мыслью, генерал Дридл облегченно вздохнул и злонамеренно усмехнулся.