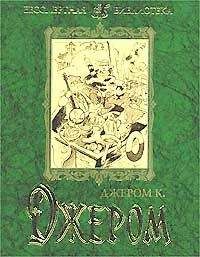Джером Джером - Досужие размышления досужего человека
На каждом общественном собрании главный оратор всегда «веселый славный малый». Почитай марсианин наши газеты, он бы не сомневался, что каждый член парламента – жизнерадостный, добродушный, отважный, благородный святой, и только его человеческие качества удерживают ангелов от того, чтобы вознести его на небо прямо в телесной оболочке. Разве не все слушатели в едином порыве три раза подряд громогласно провозгласили его тем самым «веселым славным малым»? Они все так говорят. Мы всегда с неослабевающим наслаждением выслушиваем блестящую речь своего приятеля, только что закончившего и севшего на место. А когда вы думали, что мы зевали, так это мы, открыв рот, упивались его красноречием.
Чем выше человек поднимается по общественной лестнице, тем обширнее становится этот необходимый фундамент притворства. Если с великим человеком случается что-нибудь печальное, люди меньшего масштаба с трудом находят в себе силы жить дальше. Видя, что мир в некотором роде перенаселен важными персонами и что с ними обычно что-нибудь да происходит, просто удивляешься иной раз, как этот мир еще не закончил свое существование.
Когда-то давно некий безусловно хороший и великий человек заболел. В дневной газете я прочитал, что вся нация погрузилась в скорбь. Обедавшие в ресторанах, услышав от официанта печальное известие, роняли голову на стол и рыдали. Незнакомые доселе люди, встретившись на улице, заключали друг друга в объятия и плакали, как дети. Я в это время находился за границей, но уже собирался вернуться домой. Мне просто было стыдно возвращаться. Поглядев на себя в зеркало, я пришел в ужас от того, как выгляжу – как человек, много недель подряд не знавший никаких неприятностей. Мне казалось, что если я внезапно появлюсь с таким цветом лица среди объятой горем нации, то лишь усугублю их печаль. Мне стало понятно, что человек я поверхностный и эгоистичный. Мне как раз повезло в Америке с моей пьесой, и даже ради спасения собственной жизни я бы не смог выглядеть убитым горем. В отдельные моменты я даже начинал насвистывать, и приходилось держать себя в руках.
Если б было можно, я бы остался за границей до тех пор, пока какой-нибудь удар злодейки-судьбы не настроил меня в унисон с соотечественниками, но дела не ждали. Первым человеком, с кем мне пришлось заговорить в порту Дувра, оказался таможенник. Можно было предположить, что горе сделает его равнодушным к пустяковому вопросу о сорока восьми сигарах, но он почему-то очень обрадовался, когда их нашел, потребовал три шиллинга четыре пенса и даже захихикал, получив их. На вокзале в Дувре маленькая девочка рассмеялась, потому что леди уронила на собачку сверток – но дети всегда бессердечны, а может быть, она просто не слышала новость.
Но что поразило меня больше всего, так это респектабельный на вид мужчина в вагоне, читавший юмористический журнал. Правда, вслух он не смеялся, для этого ему хватило приличия, но в любом случае, что в руках убитого горем гражданина делает юмористический журнал? Не проведя в Лондоне и часа, я пришел к выводу, что мы, англичане, на удивление хорошо умеем владеть собой. Согласно газетам, днем раньше всей стране грозила опасность зачахнуть от горя и умереть от разбитого сердца, но за какой-то день нация сумела взять себя в руки. «Мы плакали весь день, – сказали они себе, – мы плакали всю ночь. Непохоже, чтобы от этого было много пользы. Давайте же снова взвалим на себя бремя жизни». Некоторые – я заметил это в ресторане отеля в тот же вечер – вновь благосклонно принялись за еду.
Мы притворяемся и насчет вполне серьезных вещей. Во время войны солдаты своей страны – непременно самые отважные в мире. Солдаты же вражеской страны всегда вероломны и коварны, вот почему они иногда побеждают.
Литература – это искусство притворства.
– А теперь садитесь все кругом и бросайте свои пенни в шапку, – говорит автор, – а я притворюсь, что в Бейсуотере живет юная леди по имени Анжелина, самая прекрасная юная леди на свете. А в Ноттинг-Хилле, притворимся мы, проживает молодой человек по имени Эдвин, влюбленный в Анжелину.
И если в шапке наберется достаточно пенни, автор начнет свою историю и притворится, что Анжелина подумала вот то и сказала вот это, а Эдвин совершил много чудесных поступков. Мы знаем, что все это автор сочиняет по ходу повествования. Знаем, что он придумывает то, что, по его мнению, доставит нам удовольствие. Он, в свою очередь, вынужден притворяться, что делает все это потому, что не может иначе, так как он художник. Но мы-то прекрасно знаем, что стоит нам перестать бросать пенни в его шапку, и он быстро поймет, что очень даже может.
Театральный антрепренер ударяет в барабан.
– Подходите! Подходите! – кричит он. – Сейчас мы сделаем вид, что миссис Джонсон – принцесса, а старина Джонсон будет притворяться, что он пират. Подходите, подходите, не опаздывайте!
И миссис Джонсон, притворяющаяся принцессой, выходит из шаткого сооружения, которое мы по общему согласию считаем дворцом, а старина Джонсон, прикидываясь пиратом, то поднимается вверх, то опускается вниз на другом шатком сооружении, по общему согласию считающемся океаном. Миссис Джонсон делает вид, что влюблена в него, хотя мы знаем, что это не так. А Джонсон притворяется ужасным человеком, а миссис Джонсон до одиннадцати часов притворяется, что верит в это. А мы платим от шиллинга до полусоверена, чтобы два часа сидеть и слушать их.
Но, как я говорил в самом начале, мой друг – сумасшедший.
© Перевод И. Зыриной
Сделан ли американский муж исключительно из цветного стекла?
Я рад, что я не американский муж. С первого взгляда мое замечание может показаться нелестным по отношению к американской жене, но это вовсе не так. Все совсем наоборот. Мы в Европе имеем множество возможностей оценить американскую жену. В Америке вы слышите про американскую жену, вам рассказывают истории про американскую жену, вы видите ее портрет в иллюстрированных журналах. Если поискать под рубрикой «Вести из-за рубежа», можно выяснить, чем она занимается. Но здесь, в Европе, мы ее знаем, встречаемся с ней лицом к лицу, разговариваем с ней, флиртуем с ней. Она очаровательна, восхитительна. Вот почему я говорю, что рад тому, что я не американский муж. Если бы только американский муж знал, до чего хороша американская жена, он бы продал свой бизнес и примчался сюда, где сможет изредка с ней видеться.
Много лет назад, только начав путешествовать по Европе, я говорил себе, что Америка, должно быть, просто убийственное для жизни место. Как печально, думал я, тысячами встречать американских вдов, куда бы ни пошел. В одном узком переулке в Дрездене я насчитал четырнадцать американских матерей (а у них в общей сложности двадцать девять американских детей) – и ни единого мужа на всех четырнадцать. Я представлял себе четырнадцать одиноких могил, разбросанных по Соединенным Штатам. Видел внутренним взором четырнадцать надгробных плит из лучшего материала, с выгравированными от руки надписями, перечисляющими добродетели тех четырнадцати умерших и похороненных мужей.
Странно, думал я, решительно странно. Эти американские мужья – должно быть, они представляют собой хрупкий и болезненный тип человека. Удивительно, что матери вообще смогли их вырастить. Большинство из них женятся на чудесных девушках, у них родится двое-трое прелестных детей, а после всего этого оказывается, что этому миру они больше не нужны. Неужели нельзя ничего сделать, чтобы как-то поддержать их здоровье? Не поможет ли им укрепляющее средство? Не обычное укрепляющее – я не имею в виду те укрепляющие средства, которые предназначены только для того, чтобы подагрические старые джентльмены вдруг почувствовали, что готовы купить обруч и катать его, но такие укрепляющие, про которые заверяют, что трех капель на бутерброд с ветчиной достаточно, чтобы он начал визжать.
Душераздирающая картина – эти американские вдовы, покидающие свою родную страну, перебирающиеся на кораблях через океан, чтобы провести в изгнании остаток своей загубленной жизни. Надо полагать, даже мысль об Америке им противна. Земля, по которой когда-то ступала его нога! Старые знакомые места, когда-то освещенные его улыбкой! Все в Америке напоминает о нем. Прижав младенцев к тяжело вздымающейся груди, они покидают страну, где похоронена радость их жизни, ищут уединения в Париже, Флоренции или Вене, пытаются предать забвению прошлое.
Но до чего прекрасная картина – благородное смирение, с каким они несут свою скорбь, скрывая грусть от равнодушного незнакомца. Некоторые вдовы устраивают переполох, неделями ходят мрачные и подавленные, не делая ни малейшей попытки развеселиться. Эти четырнадцать вдов (я знаком с каждой лично, потому что жил на той же улице) – как мужественно они изображают веселость! Какой урок европейской вдове, вдове-затворнице! Можно провести в их обществе целый день (я проводил), начать рано утром с катания на санях, а закончить поздно вечером легким ужином и приемом, завершающимся импровизированными танцами, и не догадаться по их внешнему виду, что на самом деле они не получают никакого удовольствия.