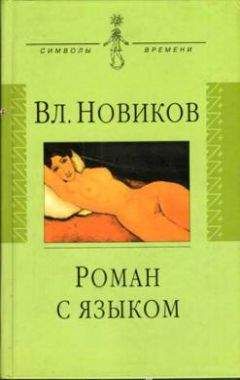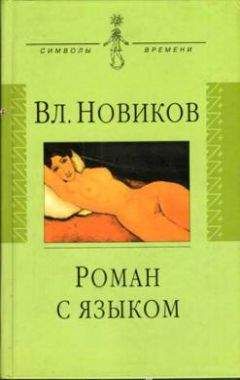Пародия - Коллектив авторов
Елена незаметно перекрестилась. Громко сказала:
— Если это нежить или нечисть, то очень интересно… Ах, как интересно!
Пошли вперед. Наконец перед ними открылась небольшая прогалина. На ней было много детей. Разного возраста.
В различных местах сидели. Летали. В середине десятка три мальчиков и девочек пели:
— «Эх распошел, грай-пошел, хорошая моя…»
Все дети и наставницы их были одеты очень просто и легко.
Девочки — в подвязках, мальчики — в одних подтяжках.
«Одежда должна защищать — а не закрывать, одевать— а не окутывать».
Дети, которые не играли, обступили сестер. Одна маленькая девочка сказала:
— А мне дядя Дю-Лу белочку подалил. А я как кликнула! А он как побежит!
Из-за куста выглянули два белых мальчика.
— Кто это? — спросила Елисавета.
Маленькая девочка весело ответила:
— Это тихие мальчики. Они живут в главном доме у ГЬолгия Селгеевича.
— Что же они там делают?
Маленькая девочка таинственно прошептала:
— Не знаю. Они к нам не приходят. Их там стележет злой дядя Кузмин.
Перед сестрами открылась тихая долина. Пошли.
Глава вторая
Триродов был один. Вспоминал. Мечтал о прошлом. О ней…
Комары томили…
И нарушено было уединение вторжением холодно-чувственной любви.
Пришла. Начала как всегда:
— Я пришла к вам по делу.
И стала раздеваться.
Алкина была человек партийный. Даже раздеваясь, говорила об агитаторах, даже в объятьях думала о пролетариате.
Так и теперь. Расстегнула сзади крючки. Сказала;
— Сегодня к вечеру будет агитатор.
Помолчала. Вздрогнула. Сказала, берясь за лиф:
— Накрыли типографию. Арестовали.
Проворно и ловко разделась. Нагая стала перед Триродовым. Произнесла:
— Сознательные рабочие собираются бастовать на клозетной фабрике.
Подняла руки. Страстный холодок пробежал по ее розовому телу. На лицо набежала краска. Сказала, тяжело дыша:
— Кухарки требуют сокращения рабочих часов. Судомойки тоже.
Помолчала. Зевнула. Тихо прошептала:
— Вы меня приласкаете, Триродов?
Подумал. Спросил:
— Имеете разрешение ЦК?
Нашла юбку. Порылась в ней. Вытащила сложенный вчетверо лист. Подала ему.
Триродов прочитал внимательно лист. Сказал:
— Документ в порядке. Приласкаю. Ступайте в следующую комнату. Ждите меня.
Пошла, блеснув своим ослепительным телом. В дверях обернулась и крикнула:
— На массовке будет говорить товарищ Елисавета.
Скрылась. Триродов прочел две главы из Маркса и пошел к ней.
Улыбнулась страстно. Прижалась к нему. Слегка покраснела. Спросила:
— Вы сегодня будете на заседании трубочистов?
Он утвердительно обнял ее стан.
Молодой человек маленького роста в фуражке министерства народного просвещения тронул меня за рукав.
— Не узнаете? — спросил он обиженно. — Крученых. Помните?
— Крученых? Крученых? Дай бог памяти…
— Забыли? Бывший вождь эгофутуристов. Можно сказать, гремел в свое время на всю Россию…
— Вспомнил! Вспомнил! Это, кажется, ваши стихи:
— Мои! Мои! Наконец-то вспомнили. Мне хотели за них Пушкинскую премию дать, да я отказался из презрения к Пушкину.
— Что же вы теперь делаете?
— Служу-с, как видите, в министерстве народного просвещения.
— Давно служите?
— Очень давно. И когда был вождем эгофутуристов, служил. Тоже забыли.
Действительно, я вспомнил, что Крученых, когда был в зените своей славы, служил учителем не то чистописания, не то плавания, не то танцев.
Публика считала его демоном-разрушителем, а он ставил двойки ученикам и вставал при входе инспектора, геморроидального статского советника…
В то время, когда он в Тенишевском училище сбивал с пьедестала Пушкина и лбом избивал столы, он бросал пугливые взоры в публику — не сидит ли там кто-нибудь из учебного начальства…
— Товарищи ваши живы? — спросил я.
— Живы! Эх грустно!
— Отчего же грустно?
— Изменили все. Как говорится у Хлебникова, «другие ему изменили и продали шпагу свою».
— Положим, что это не Хлебникова стихи, ну это не важно. Кстати, где Хлебников?
Крученых вздохнул:
— Хлебников?.. В «Ниве» под рисунками подписи сочиняет.
— Как же так?
— Стали к нам показывать равнодушие. Сначала думали, что это пройдет. Но равнодушие не проходило, а усиливалось. А Хлебников и говорит: «Посмотрим еще, чья возьмет! Я еще заставлю о себе говорить».
— Что же он сделал?
— Отпечатал лицо в семь красок, надел сапоги на руки, а ноги всунул в корзинки и пошел в театр. Ходит по театру, всем засматривает в лицо. Никакого внимания. Понял он, что дело наше проиграно, и пошел с горя в «Ниву».
— А Маяковский?
— Изменил. Оказалось, что он нас все время надувал — тайком носил стихи в «Современный мир», «Вестник Европы» и др. Но стихов не печатали, не печатали — и вдруг в одном журнале напечатали. С тех пор Маяковский и бросил нас.
— По какой же причине?
— По той причине, что в толстом журнале напечатали. «Стану, — говорит, — теперь с вами якшаться. Хочу порядочным человеком сделаться».
— Как же я не встречал его имени в толстых журналах?
— Не печатают… Одно стихотворение напечатали, а больше не хотят… В конторе его устроили. Квитанции хорошо пишет, а стихи не подходят…
— Грустно…
Мы помолчали.
— А про Бурлюков даже не спросите?
— Ах да! Из памяти выскочили. Что они?
— Ничего. Устроились. Один в банкирскую контору поступил. Сто рублей в месяц получает. Очень доволен своей службой. «Наконец-то, — говорит, — человеком стал».
— А другой Бурлюк?
— Кубист? Он тоже недурно устроился. По своей специальности пошел — торцы для мостовых изготовляет. Этот род кубизма как раз подошел к его дарованию.
— Разбрелись… «Порвалась цепь великая», как сказано у меня в одном стихотворении. Остался я один. Вождь без армии… Пастух без корок. Эх, тяжело! Тяжело!
В эту минуту мы подошли к Невскому. Крученых заторопился:
— Трамвай, трамвай провороню.
Он бросился к подошедшему вагону трамвая…
В то время, что пишу эти строки, имена футуристов гремят по всей России.
Но я писал «сценку завтрашнего дня». Право же, только завтрашнего дня. Только завтрашнего…
Александр Блок
(1880–1921)
Корреспонденция Бальмонта из Мексики