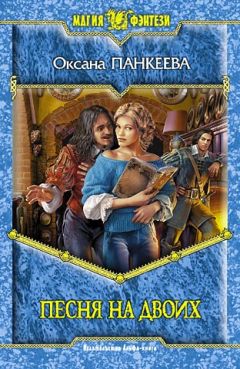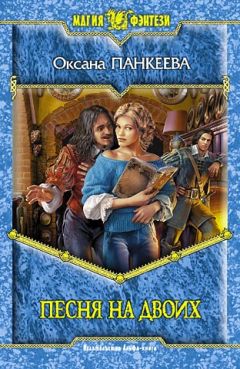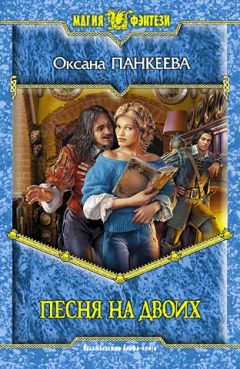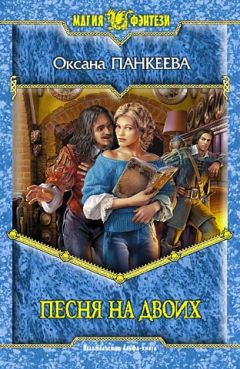Кальман Миксат - Кавалеры
― Прошу, дружище!
― Да, оставьте, ― устало отмахнулся Колтаи с чопорной небрежностью английского лорда, ― не люблю я этого. К тому же все зависит от обстоятельств. Предстоят ведь жаркие схватки, Кёниггрэц? Не так ли, а?
― Будут, будут, ― отозвался папаша Кениггрэц, который, несмотря на свою подагру, сновал повсюду, оказываясь то здесь, то там, что-то брал, переставлял, поправлял, отдавал распоряжения.
― Ну, вот. Наконец-то мы все в сборе. Только дамы еще одеваются. Пропади пропадом это тряпье, эти ленты и побрякушки… Ох, уж эти мне побрякушки…
Женщины действительно еще долго возились со своими туалетами, но ведь на то они и женщины. Горничная и служанки сломя голову бегали от комода к комоду; то шпильку нужно было подать, то рожок для обуви и бог знает что еще.
Впрочем, в конце концов и дамы были готовы.
― Ах! ― вырвалось у всех присутствовавших.
В распахнувшуюся дверь вошла невеста. Воцарилась глубокая тишина, нарушаемая лишь тем тихим, как говор моря, шепотом, который выражал приятное изумление.
― Charmante![12]
― Meiner Seel![13] Восхитительно!
Девушка и в самом деле была прекрасна. Высокого роста, стройная, хрупкая. Простое белое платье еще больше подчеркивало ее красоту. Венок на голове великолепно гармонировал с ее белокурыми волосами, шею украшало переливающееся всеми огнями радуги колье. Боже мой, какие огромные изумруды и сапфиры! (Поскольку душа у меня прозаическая, я тут же начал прикидывать, сколько Эндре получит за это колье в ломбарде.)
За невестой следовала ее мать в шелковом платье гранатового цвета.
Госпожа Лажани была еще довольно миловидной женщиной, правда несколько увядшей, но ведь и в увядании есть своя поэзия. Маленьким платочком она вытирала заплаканные глаза, но напрасно: слезы душили ее.
― Нет, не хотел бы я быть матерью, ― проговорил стоявший рядом со мною седоволосый старец, некий Мартон Шипеки, которому так понравилась эта фраза, что он принялся обходить всех гостей мужского пола по очереди и с довольной улыбкой лукаво повторял каждому: «Нет, не хотел бы я быть матерью. А ты хотел бы, а?»
Глаза невесты также покраснели от слез (верно, еще вчера у нее были красивые голубые глазки), лицо казалось бледным, слегка помятым, ― заметно было, что она не спала всю ночь. Впрочем, тонко очерченное лицо ее и сейчас оставалось очаровательным, а чудесный точеный носик придавал ему еще большую прелесть, так что ради него одного стоило бы на ней жениться.
Но где же Эндре? Ах, вот он, ― уже стоит перед своей невестой, берет ее руку, целует. Кажется, эта крохотная ручка дрожит в его руке.
― Вам страшно, Катица?
― Нет, нет, мне только стыдно немножко, ― шепчет девушка, готовая спрятаться за спину Эндре, чтобы укрыться от множества любопытных взоров.
Любопытные взоры ― это еще мягкое слово: оскорбительные, пронизывающие взгляды, бросаемые на невесту бесстыдными мужчинами. О, боже мой! Ведь не только смотрят ― о чем они еще думают при этом?! Оглядывают ее фигуру, формы, линии ее тела, словно барышники, оценивающие жеребенка на ярмарке. То, что ускользает от их взоров, они дополняют воображением. Хрупкие, тонкие, умные существа остро ощущают эти оскорбительные взгляды, грубо проникающие сквозь платье к их девственному телу.
Гости стали подходить с поздравлениями к невесте и к ее мамаше. Я успел уже совершить необходимую церемонию представления, когда папаша Кёниггрэц шумно провозгласил:
― Пожалуйте, дамы и господа! Пошли! Раз-два, на-пра-во!
Мне сунули в руку свадебный жезл, украшенный цветами, и мы собирались уже было отправиться, когда слуга в ливрее открыл наружную дверь и, тяжело отдуваясь, внес деревянный короб, прибывший почтой.
― Какая незадача, ― с отчаянием в голосе воскликнула госпожа Лажани. ― Надо же было сейчас принести! ― затем, повернувшись к дамам, пояснила: ― Это, душечки мои, платья из Парижа ― для меня и подвенечное для Катицы. От Шатело, Булоньская улица, двадцать четыре. Я обычно выписываю оттуда. И меня никогда еще не надувал этот проклятый Шатело, всегда был точен. Только на сей раз, именно сейчас! Можете себе представить, как я была расстроена. Впрочем, мне кажется, что если я пережила это, то теперь уж наверняка доживу до мафусаилова возраста. Что за язвительная улыбка, Штефи, я не выношу ее! Конечно, ты хотел бы, чтобы я умерла… Платья должны были прибыть еще позавчера; их выслали срочной почтой, и ничего не пришло, ни-че-го. Я думала, что сойду с ума. В конце концов не оставалось ничего иного, как самим смастерить дома платье для Катицы, какое уж получилось. О святые небеса, лишь вспомню, во что ты, душенька моя Катица, одета, так и чувствую ― меня сейчас же хватит удар.
― Нет, не хотел бы я быть матерью, ― заметил елейным тоном неуемный Шипеки.
И дамы и мужчины наперебой принялись клясться всеми святыми, что Катица одета восхитительно и что нет на свете такого портного, который смог бы что-либо убавить или прибавить к ее красоте. Однако ее превосходительство майорша упрямо качала головой, отчего красные, как ржавчина, страусовые перья на ее тюрбане колыхались во все стороны.
― Ах, и не говорите мне этого, не говорите! Что непорядочно, то непорядочно. Очень бы мне хотелось вскрыть эту коробку… Was sagst du dazu, alter Stefi?[14]
Папаша Кёниггрэц поспешил возразить:
― Что ты, душа моя, что ты! Ведь нотариус и священник ждут нас уже не меньше часа. Я рад, что парижские платья здесь, и тоже хотел бы, чтобы вы нарядились в них, поскольку портным уж заплачено. Но, в конце концов, мы в своей семье. И ― бог с ним, с платьем! Um Gottes willen[15], не станете же вы сейчас раздеваться и снова облачаться. Оставь ты это, Аннушка! А ты, Петер, отнеси-ка парижскую коробку в спальню ее превосходительства, чтобы не мешалась тут под ногами.
Петер, слуга, к которому обратился майор, подхватил со стула деревянную коробку и понес ее прочь из комнаты.
― Ах, мои брюссельские кружева! ― со вздохом произнесла госпожа Лажани, глядя вслед удаляющемуся слуге, а вернее ― коробке.
Мне бросился в глаза этот слуга, а вернее ― полустертая, но все еще достаточно отчетливая надпись мелом на его доломане: «Поехали, господа, иначе мне попадет!»
Стоп! Это еще что за загадка? Да ведь надпись была сделана еще в Ортве. Слуга не тот, а доломан все тот же. Но как это получилось? Очевидно, доломан привезли сюда и забыли стереть с него надпись. Постепенно, руководствуясь этой догадкой, я опознал и еще несколько костюмов, виденных мною в Ортве. Черт возьми, эти кочующие ливреи не могут не вызвать удивления!
Но размышлять было уже некогда. Распоряжавшаяся свадебной церемонией госпожа Слимоцкая расставила всех нас по местам и отдавала последние распоряжения.
Я шел впереди с жезлом, украшенным цветами. За мной ― Пишта Домороци вел невесту. Затем следовал жених под руку с Вильмой Недецкой; опираясь на руку статного Ференца Чато, шествовала юная Мари Чапицкая.
И так далее, вереницей, в каком порядке ― я и не приметил, ибо оглянулся всего раз, когда после регистрации мы двинулись в церковь. Впрочем, обиталище нотариуса и церковь были в двух шагах от старинного полуразрушенного дома Лажани.
После вчерашнего дождя на дороге образовалась небольшая лужа, размером не больше шкуры буйвола, однако обойти ее было невозможно, так как с одной стороны был забор, за которым находился сад приходского священника, а с другой ― дорогу загородила телега горшечника.
Пришлось бы, разумеется, и невесте намочить в луже свои белые атласные туфельки. Хоть душа ее и парила на седьмом небе, ножки-то ступали по бренной земле.
Что касается меня, то, понадеявшись на свои длинные ноги, я просто перемахнул через лужу, и мне даже в голову не пришло позаботиться о других.
― Браво, Домороци! ― послышалось в ту же минуту за моей спиной. И человек десять сразу закричали: ― Браво, браво!
Я обернулся, желая узнать, что произошло. Оказывается, Домороци отстегнул свою вишневую бархатную венгерку и прикрыл ею лужу. Очаровательная невеста, улыбаясь, прошла по ней. Пожалуй, это была первая ее улыбка за весь день.
Позже я узнал, что венгерка Пишты до тех пор лежала в луже, пока по ней не прошли все дамы. Представляю себе, как втоптали ее в грязь дородная госпожа Слимоцкая и грузная госпожа Чато, весившая около ста килограммов. Лишь после этого слуга унес венгерку домой, чтобы высушить и вычистить ее.
Что рассказать о церковной церемонии? Во время нее не произошло ничего особенного. Тривиальный, многими проторенный путь к тому, чтобы делить хлеб-соль, ― о мёде-то стоит ли и упоминать, ведь он бывает только вначале. Еще менее я собираюсь утомлять читателя описанием всех подробностей обеда ― ведь каждому случалось бывать на свадьбе и еще никто не умер там от голода. Я опускаю всевозможные детали, которые интересовали лишь присутствующих, отдельные неурядицы и инциденты, не стану рассказывать о том, как выскакивали тарелки и чашки из рук прислуживавших за столом лакеев, как один из них облил соусом уже знакомое нам гранатового цвета платье досточтимой хозяйки дома, отчего у нее вырвалось восклицание: «Боже правый! Какое счастье, что на мне не парижское платье!» (Так благое провидение искусно превращает в счастье величайшую неудачу.)