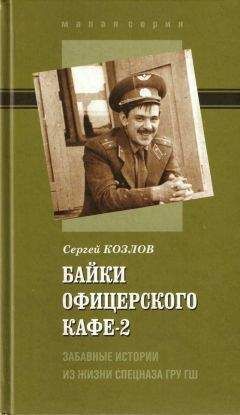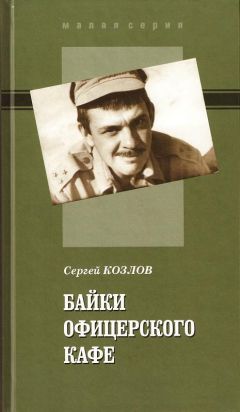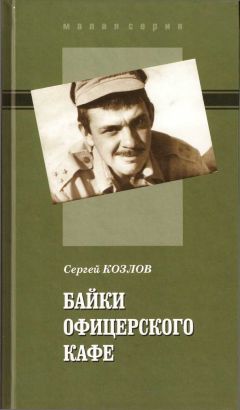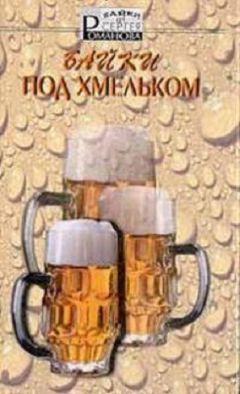Сергей Довлатов - Наши
— Фашист, — кричал он иногда, — матерый власовец!..
И вдруг мой дядя умер. Вернее, тяжело заболел. И решил, что ему пора умирать. Ему было 76 лет.
— Вызовите Сережу, — попросил он.
Я сразу же приехал. Дядя лежал на высоких подушках, худой и бледный. Он попросил всех уйти из комнаты.
— Сергей, — очень тихо произнес мой дядя, — я умираю…
Я молчал.
— Я не боюсь смерти, — продолжал мой дядя.
Он выждал паузу и заговорил снова:
— Я честно заблуждался… Мучительно переживал свои ошибки… И вот что я понял. Те святыни, под знаком которых я жил, оказались ложными… Я потерпел идейный крах…
Дядя попросил воды. Я поднес чашку к его губам.
— Сергей, — продолжал мой дядя, — я всегда ругал тебя. Я ругал тебя, потому что боялся. Я боялся, что тебя арестуют. Ты очень невоздержан… Я критиковал тебя, но внутренне соглашался. Ты должен меня понять. Сорок лет в этой… — (тут дядя грязно выругался), — партии. Шестьдесят лет в этом… — (тут дядя повторил ругательство), — государстве…
— Успокойся, — сказал я.
— …превратили меня в шлюху, — закончил дядя.
Он сделал усилие и продолжал:
— Ты всегда был прав. Я возражал, потому что боялся за тебя. Прости…
Он заплакал. Мне стало очень жаль его. Но тут пришли медработники и увезли дядю в больницу.
Моего дядю увезли в обыкновенную больницу. Тетка думала, что его увезут в Свердловскую.
— Ты же старый большевик, — говорила она.
— Нет, — возражал мой дядя, — я не старый большевик.
— То есть как?
— Старый большевик — конкретное понятие. Старый большевик — это кто вступил до тридцать пятого года. А я вступил несколько позже.
Тетка не могла поверить.
— Значит, ты не старый большевик?!
— Нет.
— Все равно, — говорила она, — может, и тебе что-нибудь полагается?
— Возможно, — соглашался дядя, — возможно, и мне что-то полагается. Например, яблоко…
Короче, моего дядю увезли в обыкновенную больницу. Когда его осматривал лечащий врач, дядя спросил:
— Доктор, вы фронтовик?
— Да, — ответил врач, — я фронтовик.
— И я фронтовик, — сказал мой дядя, — ответьте честно, как фронтовик фронтовику, долго ли я пролежу в больнице?
— При благоприятном ходе событий — месяц, — ответил врач.
— А при неблагоприятном, — усмехнулся дядя, — значительно меньше?..
Он пролежал в больнице недели три. И его привезли домой.
Я сразу же его навестил.
Мой дядя казался печальным и тихим. Словно обрел какую-то высшую мудрость.
Однако когда я упомянул в разговоре Че Гевару, дядя насторожился.
— Авантюрист и гангстер, — сказал я.
— Тунеядец и болван! — реагировал дядя. И дальше с огромным подъемом: — Укажи мне благую идею, лежащую вне коммунизма!..
Тут он неожиданно прервал свою речь. Очевидно, вспомнил наш предсмертный разговор. Виновато покосился на меня.
Я промолчал.
С тех пор мы часто виделись и неизменно ругались. Дядя проклинал рок-музыку, невозвращенца Барышникова и генерала Андрея Власова. Я — бесплатную медицину, «Лебединое озеро» и Феликса Дзержинского.
Потом мой дядя снова заболел.
— Вызовите Сережу, — попросил.
Я сразу же приехал. Дядя выглядел осунувшимся и бледным. На табурете у его изголовья стояли бесчисленные флаконы. Там же интимно розовела вставная челюсть.
— Сергей, — глухо произнес мой дядя.
Я погладил его руку.
— У меня к тебе огромная просьба. Дай слово, что выполнишь ее.
Я кивнул.
— Задуши меня, — попросил дядя.
Я растерянно молчал.
— Мне надоело жить. Я не верю, что коммунизм может быть построен в одной стране. Я скатился в болото троцкизма.
— Не думай об этом, — сказал я.
— Ты готов выполнить мою просьбу?.. Я вижу, ты колеблешься… Конечно, я мог бы принять двадцать таблеток снотворного. Увы, это далеко не всегда приводит к смерти… А если меня разобьет паралич? И я стану для всех еще более тяжкой обузой? Поэтому я вынужден был к тебе обратиться…
— Перестань, — сказал я, — перестань…
— Я отблагодарю тебя, — сказал мой дядя, — я завещаю тебе сочинения Ленина. Отнеси их в макулатуру и поменяй на «Буратино»… Но сначала задуши меня.
— Перестань, — сказал я.
— Кругом злоба и глупость, — сказал мой дядя, — правды нет…
— Успокойся.
— Знаешь, отчего я мучаюсь? — продолжал он. — Когда мы жили в Новороссийске, там был забор. Высокий коричневый забор. Я каждый день проходил мимо этого забора. А что было внутри, не знаю. Не спросил. Я не думал, что это важно… Как бессмысленно и глупо прожита жизнь! Значит, ты отказываешься?
— Перестань, — сказал я.
Дядя отвернулся и замолчал.
Через две недели он выздоровел. И мы снова ужасно поссорились.
— Болван! — кричал мой дядя. — Ты не хочешь понять! Идея коммунизма, скомпрометированная бездарными адептами, по-прежнему гениальна! Недаром коммунистическую идеологию разделяют миллионы людей!..
— Кто ее разделяет?! — говорил я. — Да ни один здравомыслящий человек!..
— Значит, не разделяют? — багровел дядя. — Не разделяют и молчат? Значит, все кругом лицемеры?!.
— Идеологию вовсе не обязательно разделять, — говорил я, — ее либо принимают, либо не принимают. Это как тюрьма: нравится не нравится — сиди…
— Болван! — кричал мой дядя. — Власовец, фарцовщик!..
У изголовья его висел небольшой портрет Солженицына. Когда приходили гости, дядя его снимал…
Это повторялось снова и снова. Дядя заболевал, потом выздоравливал. Мы ссорились. Потом мирились. Шли годы. Он совсем постарел. Не мог ходить. Я был к нему очень привязан…
Как я уже говорил, биография моего дяди отражает историю нашего государства… Нашей любимой и ужасной страны…
Потом мой дядя все же умер. Жаль…
А мне не дает покоя высокий коричневый забор…
Глава седьмая
С раннего детства мое воспитание было политически тенденциозным. Мать, например, глубоко презирала Сталина. Более того, охотно и публично выражала свои чувства. Правда, в несколько оригинальной концепции. Она твердила:
— Грузин порядочным человеком быть не может!
Этому ее научили в армянском квартале Тбилиси, где она росла.
Отец мой, напротив, испытывал почтение к вождю. Хотя у отца как раз были веские причины ненавидеть Сталина. Особенно после того, как расстреляли деда.
Может быть, отец и ненавидел тиранию. Но при этом чувствовал уважение к ее масштабам.
В общем, то, что Сталин — убийца, моим родителям было хорошо известно. И друзьям моих родителей — тоже. В доме только об этом и говорили.
Я одного не понимаю. Почему мои обыкновенные родители все знали, а Эренбург — нет?
В шесть лет я знал, что Сталин убил моего деда. А уж к моменту окончания школы знал решительно все.
Я знал, что в газетах пишут неправду. Что за границей простые люди живут богаче и веселее. Что коммунистом быть стыдно, но выгодно.
Это вовсе не значит, что я был глубокомысленным юношей. Скорее, наоборот. Просто мне это сказали родители. Вернее, мама.
Отец меня почти не воспитывал. Тем более что они с матерью вскоре развелись.
Жили мы в отвратительной коммуналке. Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной. Обои возле телефона были испещрены рисунками — удручающая хроника коммунального подсознания.
Мать-одиночка Зоя Свистунова изображала полевые цветы.
Жизнелюбивый инженер Гордей Борисович Овсянников старательно ретушировал дамские ягодицы.
Неумный полковник Тихомиров рисовал военные эмблемы.
Техник Харин — бутылки с рюмками.
Эстрадная певица Журавлева воспроизводила скрипичный ключ, напоминавший ухо.
Я рисовал пистолеты и сабли…
Наша квартира вряд ли была типичной. Населяла ее главным образом интеллигенция. Драк не было. В суп друг другу не плевали. (Хотя ручаться трудно.)
Это не означает, что здесь царили вечный мир и благоденствие. Тайная война не утихала. Кастрюля, полная взаимного раздражения, стояла на медленном огне и тихо булькала…
Мать работала корректором в три смены. Иногда ложилась поздно, иногда рано. Иногда спала днем.
По коридору бегали дети. Грохотал военными сапогами Тихомиров. Таскал свой велосипед неудачник Харин. Репетировала Журавлева.
Мать не высыпалась. А работа у нее была ответственная. (Да еще при жизни Сталина.) За любую опечатку можно было сесть в тюрьму.
Есть в газетном деле одна закономерность. Стоит пропустить единственную букву — и конец. Обязательно выйдет либо непристойность, либо — хуже того — антисоветчина. (А бывает и то и другое вместе.)
Взять, к примеру, заголовок: «Приказ главнокомандующего».