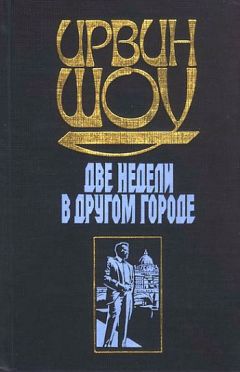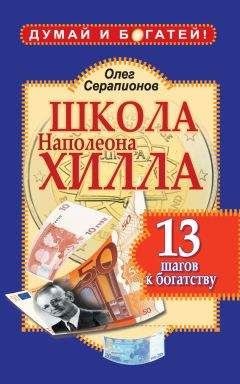Олег Мальский - Три недели из жизни лепилы
— Да ему ничего не будет. Он серебряный.
Портсигар мне подарила Оля на пятый день пребывания в Сочах.
Я привык носить сигареты в пачке и несколько раз забывал красивую безделушку на тумбочке. Видимо, поэтому и убрал в сумку от греха подальше. На крышке было выгравировано: «На память о незабываемом».
Непонятно зачем я щелкнул крышкой. Внутри лежал неиспользованный авиабилет Адлер-Внуково. На обороте — Олиным почерком: «Ты упрямый, но я упрямее».
Я бросился к телефону. Молчит.
— Да что у вас тут происходит?!
Бабушка вышла из кухни.
— Он вторую неделю, как сломался. Говорят, что-то с линией.
Я побежал на станцию.
Через пятнадцать минут главный анестезиолог города Сочи посоветовал мне решать свои проблемы самостоятельно.
Его можно понять. Сегодняшним днем я уволен с кафедры и, следовательно, автоматически вычеркнут из списка «московских профессоров».
Она никуда не улетала. Обзванивать гостиницы и вокзалы бесполезно. Расследование закончилось. Все точки над «ё» были расставлены.
Я вышел из кабины и медленно затворил за собой дверцу.
— От вас можно позвонить в Москву?
— На улице.
Паши дома не было.
В «реанимации» 54-й мне ответил молодой женский голос.
— Он здесь больше не работает.
— А где он работает?
— В раю. Надеюсь.
— Как?
— Недели две как похоронили.
Я медленно опустился на корточки.
Еще одна шутка? Но так не шутят с посторонними людьми. Тем более про своих.
В Лефортовском морге долго не брали трубку. Я слушал протяжные призывные гудки — минуту, две, три… Просто не знал, что делать дальше.
Наконец ответили.
— Здравствуйте. Извините… Можно Станислава?
— Станислава нет.
И он тоже?!
— А где его можно найти?
— Не имею представления. Взял отпуск за свой счет.
До-свидания.
Я нашарил последний гривенник.
Стасик хрипел, кашлял и отплевывался, — Как это произошло?
— А как это у вас, анестезиологов, происходит? Ширнул чего-то в вену.
— На дежурстве?
— Нет, на Шереметьевской. Оставил записку. Со всеми попрощался.
Нет, это не розыгрыш. Я прислонился к ржавому косяку.
— Ты был на похоронах?
— Не был. И на гражданской панихиде не был. В его больнице, наверное, все перекрестились. Знаешь, с ним было трудно последние месяцы.
Я молчал.
— Встретились с ребятами из его секции. Помянули. Третью неделю продолжаю в том же духе.
— Я только вчера прилетел. Я был…
Я был в Москве, когда он набирал в шприц павулон с кетамином.
— Неважно. В записке есть и для тебя кусочек. Зачитать?
— Она у тебя?
— Сейчас найду, погоди…
— Не надо. Я приеду. Ты вечером дома?
— Только схожу за пивом.
Я закурил.
За стеклом, многозначительно поглядывая на часы, переминался с ноги на ногу дядька с портфелем. Я стрельнул у него «двушку», сделал три глубокие затяжки и позвонил в «Союзздравэкспорт».
— Куда вы запропастились? Билеты на завтра.
— Я лечу один.
Последовала возмущенная тирада. Дядька с портфелем застучал монеткой по стеклу.
Я попрощался и повесил трубку. Перед самой дверью натянул на лицо улыбку.
— Дорогие предки! У меня новость. Ни за что не угадаете.
Обеспокоенность в глазах родичей сменилась откровенной паникой.
— Только присядьте, а то вы грохнетесь в обморок. Я все-таки еду в длительную загранкомандировку.
Восторгам не было предела.
Мама разгрузила холодильник. Бабушка запалила все существующие и несуществующие конфорки. Нас с папой послали паковать чемоданы, наказав прикупить зелени по дороге.
Простились на славу.
В шесть, слегка пошатываясь, я встал из-за стола. Еще раз поцеловал маму и бабушку. Примерился к чемоданам.
— Куда ты собрался?
Я наклонился к маминому уху.
— К Ольге. Последняя ночь, сама понимаешь.
Родители переглянулись. Бабушка смахнула слезу.
— Родные мои, я вас прошу! Не рвите душу. И никаких проводов в Шереметьево. Лишние слезы.
— Но вещи, такси… Ведь Шереметьево!
— Ты прав, — я опустил чемоданы, — Можешь заехать завтра утром на Украинский бульвар? С вещами?
— А что на Украинском бульваре?
— Мы там остановились. У друзей. Дом три дробь пять.
Единственный подъезд.
— Квартира?
— Будем ждать внизу.
— Когда?
— Без четверти восемь. Минута в минуту.
— Ты становишься пунктуален. Это хорошо, — папа больно сжал мое плечо и наклонился к самому уху, — Там чтоб комар носу не подточил!
Я чудом прорвался в центр через пикеты и заграждения. Забрал билет и загранпаспорта. Оплатил визу. Контора работала, несмотря на беспорядки.
Мятый листок из ученической тетрадки. Сальные пятна, круги от стаканов. «Мы беглецы, и сзади наша Троя, И зарево наш парус багрянит…»[69]
Вот и весь кусок для меня.
Вокруг царил хаос. Скомканное белье на полу, опрокинутые бутылки из-под водки, портвейна и пива, «бычки» в подернутых плесенью консервных банках.
Стасик лежал на кровати — бледный, осунувшийся, заросший черной щетиной.
— Вставай! — я стащил его с дивана, — Умойся, побрейся. От тебя воняет за километр. Ты что, раньше лечился?
— Бросал.
— Еще раз бросишь. Но завтра.
Я отрегулировал воду и помог Стасику раздеться. Он вяло намылил подмышки.
— А что сегодня?
— Пойдем в мир.
В «Мневниках» мы заняли свободный столик. Свободных столиков было много.
— Зачем ты меня сюда привел?
— Здесь мы с ним познакомились, — Очень романтично.
К нам лениво подплыл официант. Тот самый.
— Рыбное ассорти будете? Или закуску по минимуму?
— Слушай, шеф! Ты Пашу, доктора, помнишь?
— Какого?
— Он часто здесь бывал.
— Да разве вас всех упомнишь. А в чем дело-то?
— Умер недавно. Пришли помянуть.
Холуй пожал плечами.
— Принести водки?
— Потом разберемся, — я вытащил последние две сотни, — Сначала очисти помещение от этих… господ.
У холуя загорелись глазки.
— Ну зачем же так! Я вас проведу…
— Не надо нас никуда водить! Очисти помещение.
— Даже не знаю. Я не один работаю. Тут, — он принялся подсчитывать пустые стулья.
— Удваиваю, — Стасик достал пачку «четвертаков».
Думаю, Паша оценил бы свои запоздалые итоговые поминки.
Мы молча намандячились в пустом неприбранном зале.
В полдвенадцатого я взвалил легкого, как пушинка, Стасика на плечи, доставил в Строгино и перегрузил на кровать. Отфутболил стеклотару в правый дальний угол. Выкинул консервные банки. Вытер пыль. Завел огромный бундесверовский будильник «Верле» на четверть седьмого.
В четверть седьмого Стасик подпрыгнул и метким щелчком по красной кнопке вырубил будильник. Уже лучше.
— Ты что, офигел вставать в такую рань?
— Дела.
— Какие к черту дела?
— Зайти на помойку.
— Зачем?
— За тяжелым тупым предметом. Кстати, у тебя есть резиновые перчатки? Можно хозяйственные. И непрозрачный пластиковый пакет.
— Совсем сбрендил. Перчатки на кухне. Пакеты только рваные.
— Ничего, сойдет.
— Тогда посмотри там же. За дверью.
В лифте я натянул черные резиновые перчатки и вытащил из видавшего виды пакета «Кэмел» обрезок водопроводной трубы. Чаша зла на какое-то мгновение перевесила. Скоро баланс будет восстановлен.
Вот она, заветная дверь. Теперь за угол и на две ступеньки вверх.
В замочной скважине заскрежетали ключи. Скрипнули петли.
Раздались неровные шаркающие шаги — Батыриха страдает коксартрозом. Я покрепче сжал свое оружие и выглянул из своего укрытия.
В три притопа старуха повернулась на девяносто градусов, выудила из бесформенной сумочки ключи и стала рассматривать из через толстые очки. Уронила связку. Смешно отклячила задницу в сторону и, кряхтя, наклонилась. Сумочка соскользнула с плеча и упала на бок. По кафелю рассыпались конвалюты и тубы. Моему взору предстала тонзура внушительных размеров, покрытая пигментными пятнами и чешуйками мертвой кожи в обрамлении редких седых волос.
Нет, ты не дождешься от меня coup de grace[70]. Живи еще тридцать лет. Поменяй развалившиеся тазобедренные суставы на железные, поставь керамические зубы на танталовых скобах. Жри таблетки, облысей и ослепни полностью. Выживай из ума, ходи под себя. Только успей почувствовать на собственной шкуре лояльность твоих учеников, которые забудут твой телефон и даже имя на следующий день после того, как деканат вышвырнет тебя на пенсию.
Я засунул в пакет ненужную теперь трубу, стянул перчатки и, отфутболив косметичку, прошел к лифту. Наши взгляды встретились. Слова были не нужны.