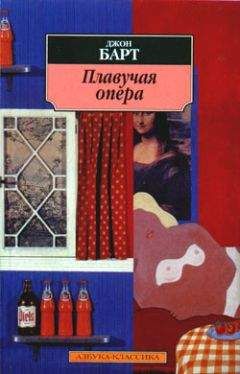Джон Барт - Химера
Едва слышным голосом, ибо она мечтала повидать мою матушку, Филоноя ответила: "Хорошо. Ладно".
Я вскочил в седло. "Не могу сказать, когда вновь увижу тебя, Филоноя. Ты всегда была прекрасной женой и матерью. И царицей. Да и другом. Мне нравятся твои вкусы в музыке, пище, мифах. Отчасти - в одежде и мебели. У тебя очень светлая голова, и ты, конечно, необычайно добросердечна. Еще, ты очень неплохо, учитывая все обстоятельства, поддерживала свою физическую молодость. И у тебя благородный характер. Что еще. О-я хотел бы любить людей как надо, но мне, похоже, это не дано. Вот. Вдобавок плохо, что я не был просто самым заурядным царем и мужем, без всех этих закидонов с бессмертием. Ты была бы куда счастливее, чего вполне заслуживаешь. До свидания".
Она опять всхлипнула, совсем негромко, вновь, поскольку не могла дотянуться до моего рта (я уже взгромоздился на Пегаса), поцеловала меня туда, где раньше красовалось кольцо, а теперь я сжимал золотую уздечку, и, как и в ночь перед моим днем рождения, не согласилась со мной, когда я заявил, что никакой я не герой. Мое сердце, заявила она, переполняла любовь - сильнее, чем я сам склонен признать: накопившаяся за столько приятных лет любовь к ней и детишкам, но прежде всего - любовь к моему покойному близнецу, который, хоть я и редко о нем упоминаю, не иначе как был совершенно необыкновенной личностью, столь движим я преданностью его памяти.
Я, скорее всего, оспорил бы это озадачивающее заявление, но Пегас, менее бдительный, чем в младые годы, по ошибке принял мое неловкое "хмф" за понукание и побрел вниз по сходням. Коринфяне глазели, как я цокаю в свой добрый старый город. Изменилось немногое: кое-какие лавки оказались иными, появилась пара новых школ. Дворец казался меньше, нуждался в покраске, кусты во дворе вымахали не в меру; по-прежнему стояло одно из деревьев, на которые мы обычно лазили, - я снизу доверху ощупал его взглядом, сук за суком, ветка за веткой, большущая катальпа, богатая гусеницами и длинными стручками, которые мы высушивали и курили за стойлами. Второй любимец исчез, равно как и самая достопамятная для меня дворовая постройка - примостившийся между дровяным сараем и нужником для рабов побеленный гибрид кладовки для инструментов и пыточной камеры, куда на десятом году жизни привела меня одна увенчанная лаврами дама в просторной тоге, моя учительница музыки, которую я припугнул, что накажу, пожаловавшись, как она лупит меня линейкой по пальцам; здесь она отложила в сторону, меж грабель и запыленных амфор, свою пятиструнную лиру, встала, потея, на колени и, обняв мои коленки - пока пчелы жужжали в решетке, словно самым обычным летним полднем, - купила мою снисходительность по удивительной, ею же самой установленной цене. Я подозрительно осмотрелся вокруг - никаких следов гиппомана; да и молодка наверняка уже померла. Какая-то старая дворняга предупредительно тявкнула на меня из-за навозной кучи, наваленной за домом около наших ульев, среди шток-роз и мимоз. Стараясь не очень мозолить глаза, я выследил усохшую пожилую амазонку, со впалой грудью и беззубую, которую принял за подругу моего детства - или старую нянечку, не помню точно - Ипполиту. Я отдал ей Пегаса, чтобы она отвела его в стойло, с улыбкой дожидаясь, когда же она вспомнит ночь на коньке крыши и узнает меня; но она, шаркая, потащила его прочь в конюшню, судя по всему даже не заметив огромных белых крыльев. Когда я спросил ее по возвращении, числится ли еще среди конюшенной челяди бывший младший капрал по имени Меланиппа, она проворчала: "Помощь в наши дни не стоит и драхмы; приходится делать всю тягомотину самой", и я узнал материнский голос.
- Не могу в это поверить, - говорил я Сивилле той ночью в роще. - Здоровье у нее в порядке, но она просто усохла; а память, память-то до чего слаба, удивительно, как это она еще заправляет дворцом, не говоря уже о полисе. Охо-хо. Поначалу она меня не узнавала; то говорила, что у нее никогда сыновей и не было, то - что они много лет как мертвы. Позже, когда она рассказала мне, что, оставшись покинутой своими мужчинами, установила в Коринфе примат материнской линии в контру отцовской, я осознал, что либо она от горечи ожесточилась, либо на ее рассудке в этом частном пункте отразился пережитый шок, - по другим поводам она казалась вполне здравомыслящей; и поэтому я признал, что в некоторых отношениях был ей весьма скверным сыном, и извинился за то, что не подавал о себе вестей целых двадцать лет. Я полагал, что твой папаша объяснил ей, что же произошло здесь, в роще, в ту ночь; предполагалось, что он растолкует ей про все эти легендарно-героические дела, что мне предстоят подвиги и т. д., а потом я, вероятно, вернусь с востока востребовать царство, когда получу подходящий знак, какового у меня все еще нет, если только им не является, в чем я сильно сомневаюсь, само путешествие за гиппоманом. Но я пришел к выводу, что этот, прошу прощения, ублюдок никогда ничего из всего этого не сделал; и я в самом деле начинаю думать, что моя жена, чего доброго, в нем не ошиблась, поскольку стоило мне только упомянуть его имя, и моя маменька тут же разразилась исступленной тирадой о том, как после погребальных игр в честь Главка и моего брата, отведя ее в сторону, Полиид просил ее выйти за него замуж и признался, что из любви к ней и из-за честолюбивого стремления стать царем Коринфа всячески способствовал ссорам между нею и Главком, Главком и мною, мною и моим братом и т. д., а потом подстроил весь этот трюк с гонками колесниц так, чтобы кто-то из нас, а то и все трое поубивались, и прибег к пресловутой Схеме, дабы получить благовидный повод для спроваживания меня из города в том случае, если я был легендарным героем, - хотя в то же самое время он заявлял, что на самом-то деле я был его сыном, потому что занимался с нею любовью среди бурунов в ту ночь не Посейдон в образе коня, а он сам в образе Посейдона в образе коня. Каково? Со своей стороны Полиид, когда я залетал за ним на гору Химера в тот, первый раз, рассказал мне, что она свихнулась и велела взять его под стражу из-за того, что все это напридумала; но, клянусь, Сив, говорила она совершенно спокойно, особенно же убеждало то, что она даже не проявила особого скептицизма и не рассердилась, когда твой папаша все это ей наплел, просто с пренебрежением засадила его в кутузку, скорее как самого обычного психа, а не как опасного изменника и убийцу. Сказанное ею слегка проясняет и его поступки с тех пор, верно ведь? Попытки, к примеру, одной рукой меня убить, другой в то же время цепляясь за мои фалды. И все же мама определенно не вполне в себе: учитывая, например, все вышесказанное, ей пришлось признать, что у нее таки были сыновья и что только один из них убит вместе с ее мужем; но она не могла без обиняков признать, кто именно; она продолжала звать меня ошибочным именем и очень скоро вернулась к тому, с чего, собственно, и начала: Беллер мертв для мира, Делиад - для нее (она изложила это в обратном порядке), Беллерофон же, который объявил себя убийцей Беллера (она имела в виду Беллера-Убийцу), - и вовсе кто-то совсем чужой, не легендарный герой, а легенда. М-да, для меня это была просто пытка. Я сказал: "Ты что, не узнаешь моего голоса, мама?" - и объяснил, что с моей колокольни "Беллерофон" означает "Голос Беллера", ты слушаешь? И разве ей не приятно узнать, что ее сын Беллер должен вот-вот стать бессмертным и т. д.? Она взглянула мне прямо в глаза и сказала: увы, вся ее семья мертва, будь любезен, оставь ее одну, а не то она кликнет стражу. Я подумал, не упомянуть ли ей о внуках, но, так как она никогда их не видела, а я оставил их дома в Ликии, вряд ли это могло чем-то помочь. Что за день. Обидно, как стареют люди. Ну да привет. Полагаю, ты очень даже взволнована повидать вновь сладкосердечного Беллера из своего детства, верно? Погляди на этот шрам, где меня огрела, вызеленив к тому же глаза, колодезная бадья; теперь, когда мои волосы поредели, ты сможешь получше его разглядеть. Как продвигается Сивиллина служба? Эх.
В лунном свете она долго щурилась на меня тусклыми глазами, потом покачала своей головой лахудры: "Беллер. Это ж надо". За двадцать лет изменилась и Сивилла - явно не в лучшую сторону. Учитывая, что ее призвание священной проститутки и пророчицы подразумевало значительную оргиастическую активность, характерную зашифрованность речи, использование лавра и других мантических наркотиков, а также некоторую несдержанность в одежде и прическе, я не видел никаких разумных оснований, почему она не могла позволить себе со старым другом чего-то большего, тем паче что мое обращение к ней было таким неформальным и доверительным. От моего видения в храме Афины она ушла очень и очень далеко, по моим оценкам не столько растрепанная, сколько разбитая, волосы в беспорядке, одежда грязна и порвана - результат непотребного обращения ее нынешнего любовника, каковому, как мне было больно узнать, случилось быть не мужчиной, не говоря уже о божестве или полубоге, а, по словам Сивиллы, "первой шишкой на конюшне" - одной из немногих наших амазонок, не перебравшихся на юг, к Тиринфу, "где все деется". В свои сорок мечта моего отрочества предстала сисястой и давно не мытой, с толстенными бедрами и талией, волосатыми ногами, губами, подмышками; даже и помимо требуемых ее службой трансов она глотала, вынюхивала и выкуривала бессчетные дозы своих разношерстных травок и редко говорила более чем полувразумительно; в праздники ли, в будни отрабатывала всех пришельцев к колодезю Афродиты, независимо от их числа, чина и члена, не знала меры ни в каком извращении, где и как придется мастурбировала в паузах между своими посетителями, если не откидывала копыта. Вдобавок еще и порыгивала. С другой стороны, свои более чем скромные средства тратила она с щедростью, дозволяла прощелыгам и нахлебникам самого разного пошиба разделить с ней и ее долму, и соломенный тюфяк, редко обирала пьянчужек и бесплатно давала нуждающимся просителям прорицания - не более и не менее загадочные по сравнению с теми, которыми она отоварила меня.