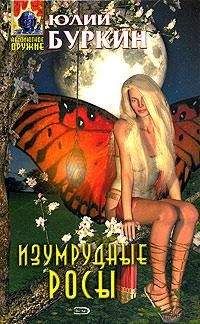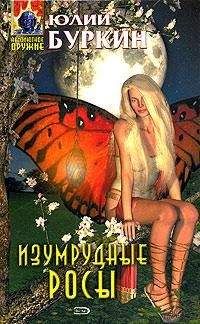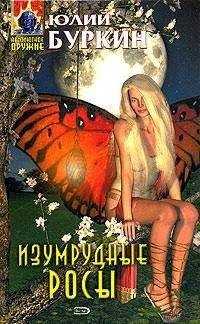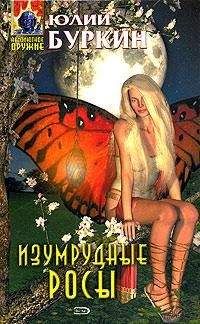Юлий Ким - Ким Юлий Черсанович
— А вот я, — говорил он, — из своего «Ромео» ни одной строчки вычеркнуть не могу.
После таких слов только и оставалось, что урезать комедию наполовину, просто из принципа. Втиснуть эти пять сырых расползающихся актов в стройные и подтянутые два. Прослоив дополнительными стихами и музыкой. Получилось все-таки в три. Эфрос с толку сбил. В два надо было.
А над Пражской Весной сгущалась Московская Зима. Явно и неотвратимо. А уж когда послышались задорные порывы выйти из Варшавского Пакта, нечего было и сомневаться. Но вторжение, с другой стороны, представлялось настолько невообразимым троглодитством, что, стало быть, мало оказалось пятидесяти лет усиленного режима, чтобы отбить надежду на амнистию.
Троглодиты, разумеется, — но не до такой же степени! Еще 20 августа Михайлов горячо заключал пари: не войдут!
На утро 21 августа назначен был суд над Толей Марченко: ему светил срок «за нарушение паспортного режима» — небольшой, но с угрозой продления с помощью придирок на зоне: давно применяемая подлость.
Это была уже, кажется, третья «ходка» непреклонного диссидента, не признававшего с «этими» никаких компромиссов. Даже Буковского они не так ненавидели, как его. И они убили его в конце концов.
21 августа пробуждение чехов и словаков, а также миллионов советских людей, как и многих других миллионов, было ужасным. Михайлов плелся на Толин суд совершенно раздавленный. Судьи не обманули ожиданий. Толя получил год. На зоне еще добавили.
Лихорадка охватила диссидентов. Что-то надо было делать. Нельзя оставлять без ответа. Еще одно обращение-заявление? Вон, Евтушенко не сдержался:
То же самое — но в прозе? Мало. Надо идти на площадь. Статья 190 (3), три года. Надо идти. Сговорились развернуть плакаты на Красной площади. Активнейшие деятели. Михайлов всплеснул руками и побежал вечером 24-го отговаривать Ларису Богораз.
— Поймите, — втолковывал он. — Кропотливая черная работа важнее, чем лезть на баррикады. А сейчас — тем более, когда многие напугаются и отойдут. Вы нужны здесь, а не в тюрьме.
Будучи воспитанным человеком, Лариса Иосифовна терпеливо слушала, а когда надоело, обещала подумать.
Утром 25-го примчался к Михайлову Вадик Делоне. «Когда? Где?» — «В 12. на Красной площади. Не ходи, я тебя прошу».
Однако нечего было и заикаться.
— Пока, стагик, — сказал Вадик. — Чегез тги года увидимся.
Широко улыбнулся — высокий, красивый, веселый. — преблагополучнейший любимец публики, — и ушел. На три года, как и обещал.
Они пришли к Лобному месту и минут пять сидели там на виду с развернутыми плакатами: «За нашу и вашу свободу»: «Руки прочь от Чехословакии!» Затем их повязали. Следствие длилось недолго. Через два месяца уже был суд.
А 1 сентября Михайлов внезапно обнаружил, что он безработный. Кругом звенели школьные звонки, но его это не касалось. Преподавать ему нельзя. Выступать тоже. Все песни для Шекспира написаны — без договора, заметьте, без единой копеечки! И теперь еще большой вопрос, захотят ли оный договор с ним заключать. Он хоть на площадь не ходил, да с ними со всеми и знаком, и подписывал, и распространял. И по вражеским «голосам» его имя звучало не однажды. Небольшая паника охватила его. Жить-то надо. Хотя повсюду повеяло холодом.
Ясно было, что Театру на Малой Бронной не следует заключать договор с известным антисоветчиком. Решили, что с ним поделятся из своих гонораров композитор Николаев и переводчик Левин. Так. Что еще можно сделать для хорошего человека? Театр напрягся и придумал. Михайлов стал музыкальным репетитором, разучивающим с актерами его и Николаева вокальные номера (за что и положили ему 200 рублей). Так он и перезнакомился с половиной труппы, благо спектакль был хорошо населенный, потому что все-таки 30 персонажей, придуманных Шекспиром, к двум свести не удалось. Меньше 15 никак не получалось.
Среди них был Оливер, эгоист и завистник. Его репетировал Гафт. Тогда уже Михайлов понял, что из всех артистов мира это самый огромный. Просто природное изящество и классическая соразмерность частей скрадывали его истинные размеры.
Иногда в отчаянии Валя раскидывал огромные свои руки и восклицал:
— Ну что мне делать с моим талантом?!.
И Михайлов видел, что перед ним Голиаф. Голиафт.
Его персонаж — Оливер — по сюжету пьесы ненавидит родного брата.
Михайлов сочинил его монолог, долго не раздумывая:
С тех пор прошло много лет. Да, пожалуй, точно можно сказать: тридцать. И Гафт вспомнил! В телебеседе с ним зашла речь о Фоменко — и он вспомнил! И спел! Причем несколько раз и на все лады. Михайлов смотрел передачу, гордясь собой: его текст если и не тянул на бессмертие, то на долговечность законно претендовал.
Каневский Леня — теперь украшение тель-авивского «Гешера» — играл тирана. У него была своя ария в сцене «Погоня»:
Леня пел правильно — но строго на четверть тона ниже, и когда для благозвучия партию рояля снижали на эту четверть, он тоже снижался. Посему благозвучия достигнуть не удалось. Тирана поручили Леве Дурову. Через 30 лет, встретив Михайлова в каком-то углу, Лева сказал: «А помнишь?» — и тоже спел, без запинки.
Трагическую роль Жака Меланхолика исполнял Александр Анатольевич Ширвиндт. Это была его первая шекспировская роль. Вторая — веронский герцог в «Ромео и Джульетте». Там ему было немного работы. У Фоменко — гораздо больше. Он бродил по Арденнскому Лесу, где все стонало от любви, и отравлял атмосферу горечью своей мудрости. У него был хороший монолог, тот самый, что начинается:
«Весь мир — театр, и люди в нем актеры…» — и далее, о Божественной комедии, а точнее, трагикомедии человеческой жизни. Читал он его под потолком. Художники Эпов с Великановым соорудили золоченое витиевато-ветвистое Древо, где можно было жить, гулять, свешиваться, перелетать с ветви на ветвь, высовываться из дупла, прятаться в листве, а самая вершина представляла собою овальную раму фамильного герба, сплетенную из фантастических листьев и увенчанную оленьими рогами, — и вот в ней-то, в этой раме, и появлялся мудрый и печальный бродяга в шелковом рубище с красивыми заплатами и произносил:
и далее, до последнего безнадежного всплеска руками вниз и в стороны — мол. что поделаешь?
Финал.
Роскошное готовили зрелище, правда, очень медленно оно варилось, так ведь шутка сказать — больше двадцати развернутых музыкальных номеров и целых три акта многопланового действа с чередованием и смешиванием комического и трагического, — что всегда было опорным столбом фоменковской карусели.
Все-таки надо было свести Вильяма в два акта.
Фарс разыгрывался не в театре — в нарсуде на Яузе, в течение трех промозглых октябрьских дней. Судили пятерых демонстрантов, героев 25 августа (шестого, Файнберга, в Питере определили в психушку, а до Наташи Горбаневской очередь дойдет позже). Действо началось, как и раньше в таких случаях: в зал проходила спецобщественность, по пропускам: друзья, иностранные корреспонденты (коры, если запросто) околачивались снаружи у выхода; из своих, таким образом, внутри оказывались только свидетели и адвокаты.