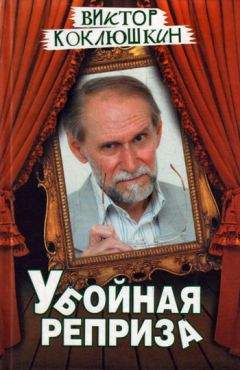Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 52. Виктор Коклюшкин - Коллектив авторов
— Ненароков?! Ты, что ль?! — окликнул Валю усатый, чубатый, лихой. — Это ж Ненароков! — объявил он всем. — Мы ж с ним с пятнадцатого года!.. С ерманской!.. А я думал, ты у беляков!.. А ты!.. Братцы, мы ж с им!..
Облапил Валюху, прижался небритой щекой к его щеке, из глаз выкатились слезы скорые.
— А Пахомыча-то убило… И Ваську. Помнишь Ваську-то, вестовым был у Григорьева?..
На глазах Валентина тоже выступили слезы. Он не знал ни Пахомыча, ни Ваську, но вдруг сердцем почувствовал, что были они в его судьбе, любил он их — и отомстит!
Да, случалось Валентину путать в своей жизни реальность с фантазией (особенно когда в продмаг из продуктов только водку завозили), но здесь фантазии не было — вот она, винтовка, в руке, тяжелая, а вон, дальше в траншее, рядком, — убитые красноармейцы…
А взводный Васька Камышов вновь смотрел волком. «Уж не лазутчик ли вражеский? — думал. — Эвон руки каки холеные! (Это у Вальки-то, работяги!) А расстрелять яво, — думал взводный командир, — и вся недолга! Оне с нашим братом не церемонятся! Да защитник у него выискался — Петька Остроухое. Сам-то Петька боевой, озорной малость… А энтот, как яво… Ненароков… тож: стрелял грамотно, патроны берег, панику не подымал… Хотя расстрелять-то оно верней!..»
— Мы 1-я рота особого полка товарища Кандаурова, — сказал взводный, — фамилие мое — Камышов… А ты — документ какой имеется? Али мандат?..
Полез Валентин в карман, сердце захолонуло: а ну как по документам он… не подходящий, нежелательный им? Нащупал в кармане бумажку какую-то, вытащил. Вытянули все головы — что там такое? А там вырезка из газеты, репортаж со сверхглубокой (тут ему кто-то и сыпанул по-доброму щепоть махры, видел, поди, парень волнуется!).
Полез Валентин дальше по карманам шарить. Махру с газетой в кулаке сжал. Внимательней стали бойцы: что ж он — не знает, где документ свой ховает? Кто-то затвором уж клацнул. Петька Остроухое шаг назад сделал, побагровел весь — с кем лобызался!
Нащупал Валентин в заднем кармане джинсов картонку документа, вытащил. Сам не смотрит — протянул командиру. Будь что будет!
Совсем тихо сделалось в траншее. Зябко. Громче из степи стоны недобитых беляков. Ржанье лошадиное. Воздух холодный, пустой какой-то, и гарью тянет. Ой, зябко!..
Смотрит командир в документ, хмурит брови, шевелит губами — читает. Ждут бойцы команды. Не вытерпел Валентин, заглянул. А там красным карандашом написано одно слово: «Наш».
— Наш, робяты… — сказал командир Васька Камышов и снял фуражку — волосы редкие, светлые, домашние. Провел ладонью по голове, как погладил себя за ум и находчивость, надел фуражку. — Ну-тк, я ж вижу: стреляет грамотно, патроны берегет, панику не подымает. Наш!
Обрадовались бойцы. А ну обнимать Валентина, тискать, руку пожимать. Тут ему и шинель кто-то на плечи набросил, видал, поди, парень дрожит. Петька Остроухое впереди всех: «Да мы с им!.. Да я!.. Да он такой-сякой-замечательный!»
А тревога в воздухе столбом стоит, не уходит. Шумят бойцы, перешучиваются, а смерть рядом бродит. И уж чудится — иль в самом деле, — кто-то бледнее стал, в глазах что-то слишком большое не помещается, уж не жизнь ли? Уж не прощается ли он с нею, сам того не сознавая?..
Угомонились бойцы. Сидит Валька в траншее, сыпятся из неумелых пальцев крошки табака на шинель. Маячат рядом грязные сапоги взводного.
— А он живой, глянь-ка! Гад!.. — сквозь зубы взводный. И пальцем в степь: — Вона побег!.. Сволочь!..
Вскочили бойцы.
— Дай я суку с винта шлепну! — вызвался лихой Остроухое.
— Живьем, живьем взять гада! — с придыханием и злобой лютой командир. — Кто?! Мать-перемать!..
— Я! — выкрикнул Валентин. И было это как выход: поймать, скрутить, сломать — выместить за все разом. Жесткий азарт обжег душу. Выскочил из траншеи (крепко подтолкнули сзади), побежал, пригнувшись, кричал: «Стой! Стой!» А тот еще быстрее хромал, оглядывался, щерился от боли и злобы, споткнулся, упал, поворотил лицо — нет, не лицо, только два глаза смотрят на Валентина, а в них ужас черный. А погоны на плечах с лычками — не офицер, значит… Помедлил буровик, а тот выдернул из кобуры револьвер.
Прыгнул Валентин на землю, распластался.
«Сдавайся!» — успел крикнуть и вдавился в землю-матушку. Пуля просвистела над ним. Удивила, отрезвила, испугала. Погас азарт, оторопь охватила: «Убьет меня!» Но нашел Валя в себе силы, победил гнущий, вязкий страх, поднял башку. И тот тоже поднял — смотрят друг на дружку. Что такое?! Не поймет Валентин — лицо уж больно знакомое у врага. Смотрит Валя на чужое лицо, как в зеркало: и нос, и глаза, и… — не может быть?! Это ведь он сам!
И тот ошарашен… «Кто таков?» — спрашивает. «Ненароков…» — отвечает Валя. «И я Ненароков…» — говорит тот. «А как звать-то?» — спрашивает Валя, руки у него тяжестью налились, а ноги, если бы и встал, — подкосились. «Петр», — отвечает тот.
«Петр… Петр… — соображает Валентин. — Так ведь это… дед мой, получается! — Ничему больше не удивляется Валентин, думает: — Что ж делать? Стрелять? Так ведь тогда… потом и отца не будет, и меня самого, Валентина, на свете белом не появится! Белом… Но ведь он — белый. Враг!»
— П-пойдем, — говорит растерянно Валя, — к нам?
— Э, нет! — отвечает тот. — Враги вы мне по гроб жизни, и биться с вами буду насмерть! — И револьвер поднимает, дрожит ствол, прыгает черная дырочка, плюнет сейчас в лицо Валентина смертью.
И отлила тяжесть с тела Вали Ненарокова, легким оно сделалось, сильным, послушным.
Вскинул он винтовку, надавил курок, и — не выстрел, гром грянул в небе. И полил дождь… Заплакало небо над горемычной судьбой дураков.
Рагожин почти сразу догадался, что перед ним мираж. Одно время, еще в НИИ, он занимался разработкой создания миражей. Дело новое, перспективное. Работа, как всегда, увлекла Юрия Ивановича, появились первые результаты. В лабораторию зачастило начальство, торопило, хотело поскорее внедрить в жизнь.
Первый маленький мираж — научных достижений НИИ — получился прочным, жизнестойким. Потом создали мираж резко выросшего благосостояния района. Заявки на него посыпались со всех концов страны. Юрий Иванович говорил, убеждал, что еще рано сдавать в массовое производство, не все было додумано, не все отлажено. Он писал докладные записки, жаловался, его посчитали кляузником, стяжателем, отстранили от работ, вынудили уволиться.
Жизнь доказала правоту Рагожина: миражи, созданные скороспело, без необходимой научно-технической базы, вскоре стали лопаться, словно мыльные пузыри. А какие замечательные задумки остались неосуществленными — мираж восстановленной и разумно сохраняемой окружающей среды! Мираж всеобщей любви и процветания!.. Впрочем, нет худа без добра — то где-то Юрий Иванович и начал заниматься самой важной для него проблемой…
Рагожин почти сразу догадался, что видит мираж, а видел он… То, что он видел, могло поразить кого угодно — он видел нашу Землю в разрезе! Как? Откуда он ее наблюдал — было непонятно, да и не важно!
Рагожин торопливо (вот отгадка некачественной связи!) передал сигнал опасности и тут же забыл обо всем на свете — перед ним была сама суть Земли, и она была — живая! Билось — вот оно! — сердце, плавилось что-то в животе, бежало по жилам… что-то. Но самое важное — неужели?! — у Земли был мозг. Два полушария!
Рагожин и раньше подозревал, что не может быть, чтобы живые жили на неживом… Впервые мысль о том, что Земля живая, пришла к нему, когда он ел абрикос. Он тогда подумал: абрикос, слива, куриное яйцо, яблоки, груши, арбузы, дыни — поверхность у них служит только защитой главного, того, что в середине. А то, что в середине, предназначено для сохранения и размножения вида. Значит… А вот что значит — Юрий Иванович тогда не додумал. Жена позвала есть. А ел он в основном то, что не имело ни середины, ни оболочки, ну да не стоит об этом! Кто из великих ученых не испытывал трудностей!..