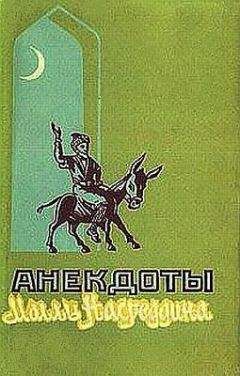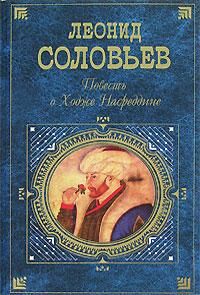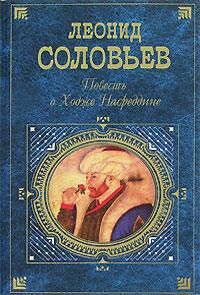Леонид Соловьев - Очарованный принц
Прыгая в сад, вор зацепил ветку граната, — когда вернулся, она еще качалась.
— Что же дальше? — шепотом спросил он, весь дрожа. Не от страха, конечно, — от воровского пыла, вывернутого наизнанку.
Сад, залитый широким и ясным потоком вечернего света, после скорбных слов Мамеда-Али как будто весь потемнел, входя в ночь.
Саид ушел. В калитке — оглянулся, махнул на прощанье рукой.
Зульфия плакала.
Медленными шагами старик вернулся к яблоне.
Он взял свою мотыгу, ударил ею раз, второй, третий, переворачивая землю, сглаженную до блеска железом. Каждый пласт он разбивал обухом, затем разминал — тщательно, до последнего комочка.
Горе лежало стопудовым камнем на его старом сердце, горе погасило последний огонь в его старых глазах, но вторгнуться в его привычный ежедневный труд не могло. В труде был для Мамеда-Али корень его бытия, главная основа, которой он держался на земле. Как всегда, размеренно поднимал и опускал он тяжелую мотыгу — и ничего за стариком не нужно было ни переделывать, ни поправлять.
Что-то звякнуло под мотыгой. Старик нагнулся, долго смотрел, не видя сослепу мешочка с драгоценностями. Ходжа Насреддин мысленно кричал ему:
«Да нагнись пониже, старый крот! Бери, вот они, бери!»
Старик наконец увидел. Поднял мешочек. Развязал — и окаменел, ослепленный блеском золота, сверканием самоцветов.
Он вытряхнул драгоценности на ладонь — темную, заскорузлую, земляную. Один из браслетов упал на землю. Мамед-Али нагнулся поднять и разронял остальное. Рубиновое ожерелье скользнуло из его рук огненной змейкой, золото, падая, мягко вспыхнуло маслянистым тающим блеском, сапфиры сверкнули голубовато-льдистым звездным мерцанием, изумруды — зелеными искрами.
— Зульфия! Зульфия! — позвал старик замирающим голосом.
Она услышала, кинулась в тревоге к нему:
— Что с тобою, отец? Тебе плохо?..
И оцепенела, увидев драгоценности. За свою жизнь ей только раза два пришлось видеть золото, а самоцветы — никогда.
— Откуда это?
Старик уже опомнился, вошел в разум:
— Нашел. Вот сейчас, под яблоней… Под любимой, твоей… О Зульфия, всемогущий аллах услышал наши мольбы! Это принес нам ангел, твой ангел, Зульфия!
Ходжа Насреддин дернул одноглазого за рукав:
— Слышишь, ты — ангел.
Сраженный, как молнией, приступом внутреннего беззвучного смеха, одноглазый в корчах повалился на землю к ногам Ходжи Насреддина.
А в саду начался радостный переполох. «Саид! Саид!» — звонким голосом кричала Зульфия. Юноша не успел уйти далеко — услышал, прибежал. Он единственный из троих догадывался, откуда взялись эти драгоценности, но как попали они под яблоню — понять не мог.
Одного только не хватало для увенчания такого дня: разноцветных лент на яблоне. «Вспомни же, вспомни!» — твердил Ходжа Насреддин, мысленно обращаясь к Зульфие. Она внутренним слухом уловила его призыв, убежала в дом и через минуту вернулась, подобная летучей комете, — стремительная, сияющая и с хвостом разноцветных лент. Солнце уже зашло, но шелк струился, блестел, как бы заключая свет в самом себе; Зульфия нарядила яблоню, и в пышном великолепии цветных лент — черная, поглощенная сумерками, исчезла, растаяла без следа.
На обратном пути вор сказал:
— Я думал, эта девушка — ангельской красоты. А на самом деле — ничего особенного. Ей до Арзи-биби, например, далеко.
— Вспомни Саади: «Чтобы понять всю красоту Лейлы, надо смотреть на нее глазами Меджнуна», — ответил Ходжа Насреддин.
В хибарке он дал вору пяток лепешек, старое одеяло, кумган:
— Ты найдешь обиталище для себя где-нибудь неподалеку. Никто не должен тебя видеть и даже подозревать о твоем пребывании в Чораке. Пищу будешь получать от меня, и только по ночам. Будь всегда готов явиться ко мне по первому зову. Ты видел шест, что лежит перед входом? Если я подниму его с белым платком, это — знак. Приходи ни минуты не медля.
— Слушаю и повинуюсь.
С этими словами вор удалился на поиски уединенного ночлега.
Прятаться он умел. Без особого труда он разыскал неподалеку маленькую пещеру, очень уютную. Вход в нее прикрывался густыми зарослями — надежной защитой от чужих взглядов. Эта пещера сохранилась и посейчас в тех местах под названием: «Обиталище благочестивого вора». Но из теперешних чоракцев ни один толком не может объяснить ее названия: о каком воре идет речь, что это был за вор, оставивший здесь на века свой неизгладимый след? Пусть же послужит наша книга к рассеянию мрака неведения и в этом тихом уголке земли, ибо познание мира собирается крупинками, и никакая крупинка не бывает лишней.
До темноты вор успел нарвать сухого плюща и устроить себе постель. Сооружение очага и все остальное он отложил до утра. Уже наступала ночь; тонкие облака, наплывая на луну, порой превращали ее сияние в светлый туман; в кустах, осеребренных луной, пробежал, тихо шурша, кто-то маленький, на мягких лапках. Сонливо пискнула разбуженная птичка.
Вор бросился на постель, вытянулся. Глаза его слипались, в ногах после трех походов переливалась гудящая тяжесть.
Через минуту он спал — крепко, спокойно. И во сне улыбался, видя, может быть, дедушку Турахона.
Спал в своей хибарке и Ходжа Насреддин; перед ним во сне качалась яблоня, увитая шестью разноцветными лентами.
Спал Агабек, сладострастно чмокая толстыми губами: ему снилась Зульфия, которую наутро ожидал он в свою паутину. Мерзостный паук, напрасные мечтания! Вместо бабочки ему для гнусной и хищной трапезы был уже приготовлен шершень! Что же касается бодрствующих, то в эту ночь их было не двое, как обычно, а трое: старый Мамед-Али тоже не спал, охраняя драгоценности, запрятанные глубоко в изголовье.
Саид и Зульфия беседовали в саду, на своем обычном месте — у водоема, в тени карагача:
— Теперь ты убедилась, Зульфия?
— Саид, мой дорогой, я ничего не понимаю! Кто он, этот незнакомец, наш покровитель, наш друг?
— Не знаю, Зульфия, — он не говорит своего имени… О, как я счастлив!
— И я счастлива. Саид!
— Навсегда?
— Навсегда! Скорее этот карагач превратится в тростинку, чем я тебя разлюблю!
Карагач слушал и не удивлялся: он видел многих влюбленных на этой скамье, слышал много нежных слов, повторяющихся из поколения в поколение, и знал, как быстро — по его вековому счету — превращаются пылкие любовники в дряхлых стариков и трясущихся беззубых старух, выходящих перед могилой посидеть на эту же самую скамью, — но только днем, чтобы погреть на солнце холодную медлительную кровь, что когда-то искрилась и пенилась, подобно молодому вину.
Глава тридцатая
— Самое время начинать полив, — весело сказал Агабек, явившись утром к отводному арыку. — Правда, на этот раз я получу не деньги, — нечто другое, но впереди ведь будут еще поливы: свои денежные убытки я всегда успею вернуть. Я не прогадал.
Кротко синело озеро; вверху так же кротко и умиротворенно синело небо, глубокое, прохладное, увлажненное ночными туманами — сонным дыханием земли.
— Хозяйничать у воды придется сегодня тебе одному, я буду занят, — продолжал Агабек. — Сейчас приведут эту девушку. Да вон, уже ведут…
Ходжа Насреддин глянул в сторону селения. К озеру по дороге направлялась кучка людей.
— Но я не вижу среди них девушки.
— Как не видишь?
Агабек воззрился на дорогу. Потом, с недоумением, — на Ходжу Насреддина:
— Посмотри внимательнее, Узакбай, у тебя глаза острее моих.
— Одни старики, — подтвердил Ходжа Насреддин.
— Понимаю! — зловеще сказал Агабек. — Они идут опять клянчить! Но я не из тех глупцов, которые поддаются на уговоры и обмякают от слез. Посмотри, как я сейчас их отделаю!
Он надулся, растопырил локти; глаза его сузились, борода выпятилась, затылок напружился, волосатая шея ушла в плечи.
Старики приблизились.
Впереди шел Мамед-Али. Еще вчера жалкий, трепетный, он за одну ночь словно бы вновь родился. Он шел твердой поступью и смотрел в лицо Агабеку прямо и смело, как равный.
За ним шли двое земледельцев, кузнец, гончар, коновал и позади всех — чайханщик Сафар.
Мамед-Али поклонился без раболепия, не слишком утруждая свою старую спину:
— Пришел срок полива, и мы хотим получить воду.
Остальные огладили бороды, призывая благословение аллаха на свой урожай.
— Получить воду? — грозно вопросил Агабек. — Но чем вы думаете платить за нее? Мое условие тебе известно, старик: твоя дочь.
— Моя дочь — не товар для торговли, — ответил Мамед-Али с твердостью и достоинством, которых вчера нельзя было предположить в нем.
Ходжа Насреддин готов был кинуться к нему с объятиями за этот смелый ответ. Старик подтвердил одну из наиболее дорогих его мыслей: свобода от голода и страха — вот что нужно человеку, чтобы извергнуть из своей крови низменную рабью каплю!