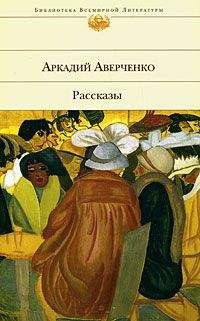Феликс Кривин - Гиацинтовые острова
— Эх, — зевнул медведь Губач, — помню, в позапрошлый Новый год — эх, и была у меня спячка! Все вокруг лежали — ни рукой, ни ногой. Очухались, когда Новый год давно прошел. Голова болит, кости ломит. Эх!.. Вот была спячка!
Справедливости ради нужно сказать, что у медведя Губача каждый день спячка. Он отсыпается после бурной ночи и при этом так громко храпит, что если бы, кроме него, кто-нибудь захотел днем соснуть, то Губач тут же разбудил бы его своим храпом.
— Я этого не люблю, — возразила медведю черепаха Эмида. — Я повеселиться люблю, но только не до бесчувствия.
— А как вы любите? — заинтересовалась бабочка Поденка, которой любой опыт был в самый раз, потому что она никогда не встречала Нового года.
— Я люблю посидеть, поговорить. Закусить, провожая старый год, и закусить, встречая новый. Попеть, как это положено. — И черепаха запела давным-давно рассохшимся голосом давным-давно непетый романс, перевирая слова на свой черепаший лад: — «Как много прожито, как мало пережито!»
— А у меня наоборот, — сказала бабочка Поденка. — Прожито мало, а уж пережито, пережито… Не жизнь, а сплошные переживания. Вчера полетела на свет — чуть не сгорела. Позавчера полетела на свет — чуть не сгорела.
— Не надо летать на свет, — сказала черепаха Эмида.
— Как же не летать? Неужели жить в темноте?
— Я двести лет живу в темноте, — сказала черепаха Эмида. — Когда всюду светло — и я при свете. Когда всюду темно — и я в темноте. А чтоб я сама летела… — Черепаха запнулась на слове «летела». — Поэтому, милая, я живу двести лет.
— Мне пора в спячку, — сказал медведь Губач.
— Успеешь в свою спячку, — отмахнулась от него черепаха Эмида. — Новый год все-таки. Видишь, мы веселимся? И ты с нами повеселись.
— Повеселись с нами, пожалуйста, — попросила бабочка Поденка.
— Разве ж это веселье? — усомнился медведь Губач. — Я понимаю, когда все лежат…
— Ты лучше закуси, — черепаха показала, как этоделается. — И поговори. Потом опять закуси. И опять поговори. А то спой. — Черепаха подперла голову и запела, по-своему перевирая слова: — «Спокойны, как волны, дни нашей жизни, мы знаем, что с нами случится впереди…»
— Как же это можно — не лететь на свет? — недоумевала бабочка Поденка.
— А зачем лететь? Раз темно, значит, так и надо. Ночь для того и ночь, чтоб было темно.
— Хочется, чтоб был день, — вздохнула бабочка Поденка.
— Быстрая какая. Сначала поживи с мое…
— Я бы пожила. Но у меня, наверно, не получится.
— Конечно, если всю жизнь трепыхать крыльями.
— А ты не трепыхай, не трепыхай. Жить живи, но не трепыхайся.
— Ой, смотрите! — встрепенулась бабочка. — Огонь!
— Костер где-то разложили, — пояснила черепаха. — Или пожар. Раскладывают, раскладывают, не поймешь, что раскладывают — костер или пожар.
— Я полечу посмотрю, — сказала бабочка.
— А тебе-то что? Горит и горит. Сиди, веселись: Новый год все-таки.
— Как же это? Там горит, а я здесь сижу… Нет, я так не могу…
И она полетела.
— Полетела, — сказала черепаха Эмида. — А куда полетела — на пожар или на костер?.. И чего эти бабочки летают? Не сидится им на месте, не ползается. Потому и не жильцы они на нашей земле: Новый год — и тот встретить не успевают, вечно у них пожар.
— Я никогда не видел пожара, — сказал медведь Губач, всхрапнув от огорчения.
— Эка невидаль…
И черепаха замолчала, представив себе эту невидаль. Горит огонь, и светло от него, как днем. И страшно, и рискованно, а светло. И прежде чем сгоришь, все вокруг увидишь, такое увидишь, чего не увидишь за двести лет. «Как мало прожито, как много пережито…» — переврала она уже однажды перевранную песню. Может быть, лучше меньше прожить и больше пережить? Но меньше прожить — тоже нехорошо. Вот если бы так: побольше пережить и побольше прожить. Но так обычно не получается. Обычно получается так: чем больше переживешь, тем меньше проживешь. А чем меньше переживешь, тем больше проживешь…
— Что-то Поденка наша не возвращается, — вздохнула черепаха Эмида.
Бабочка Поденка не возвращалась. Где-то она летела — на пожар или на костер? — где-то летела она на свет, для чего? Неужели для того, чтобы больше назад не возвращаться? Чтобы однажды все увидеть при свете и больше не возвращаться в темноту?
Звезды на небе загорались — кострами или пожарами? — и огни на земле загорались — кострами или пожарами? — и какие-то никому не известные бабочки все летели и летели на этот свет…
Нет, не встретит она, не встретит свой единственный Новый год, не повеселится она, как принято в Новый год веселиться.
Черепаха Эмида высунула лапы из-под панциря и помахала ими, как машут крыльями, когда летят на свет. И тут же спрятала их, как будто их обожгло пожаром.
— Мне пора в спячку, — сказал медведь Губач.
Может, он сказал это потому, что никогда не видел пожара и хотел на него посмотреть. По крайней мере у себя в спячке. Конечно, спячка — это была не крайняя мера, но достаточная мера для того, чтобы посмотреть на пожар и в нем не сгореть.
Черепаха Эмида пожевала что-то с новогоднего стола — пожевала за здоровье тех, кто в дороге, кто летит сейчас на костер или на пожар, кто летит туда, откуда не возвращаются…
ГИАЦИНТОВЫЕ ОСТРОВА
Жил на свете одинокий Крокодил. Он был до того одинок, что даже не умеющий считать до двух сосчитал бы его без особых трудностей. Давным-давно когда-то была у Крокодила семья, в которой он был любимым сыном и братом, но это было в далекой молодости, о которой теперь смешно даже вспоминать. Смешно до слез — так далеко уплыла от него эта молодость.
А может, он сам от нее уплыл?
Молодые крокодилы уплывают на гиацинтовых островах, на островах из цветов, нигде не пустивших корни. Им кажется, что они уплывают от родных берегов, а на самом деле они уплывают от своей молодости…
Острова и цветы привыкли знать свое место. И крокодилы привыкли знать свое место — на этом или на том берегу. Но среди цветов попадаются чудаки, и среди островов попадаются чудаки, и среди крокодилов попадаются чудаки, — и тогда на странствующих островах среди странствующих цветов плывут в далекие голубые моря странствующие крокодилы. Крокодилы редко выходят в море — разве что в молодости, на гиацинтовых островах.
Сейчас об этом смешно вспоминать. Смешно до слез, хотя слезам Крокодила никто не верит. Каждый знает, что крокодиловы слезы — это просто соленая вода, которую он льет, чтобы вывести соль из организма. Ну, пускай соленая вода, от этого ведь не легче. Соль, которую приходится выводить, тоже накапливается не от радости. Может, она от одиночества, от сознания, что молодость давным-давно уплыла…
Нет, скорее это он от нее уплыл. На островах из цветов, нигде не пустивших корни.
Как это было? Он плыл на гиацинтовых островах, и все вокруг цвело и благоухало, и казалось, что он плывет на облаке среди голубых небес, среди глубин, в которых невозможно утонуть, а чем больше в них погружаешься, тем возносишься выше и выше… И все, что держало тебя и привязывало к берегу, отступает, уходит назад вместе с этими берегами, и все заботы твои, и все печали твои уплывают назад с этими берегами, а остается только небо в реке и гиацинтовое облако из цветов, нигде не пустивших корни…
Когда облака пускают корни, приходит конец облакам. И приходит конец мечте, когда она пускает корни в действительности.
И тогда повзрослевшие, отяжелевшие крокодилы покидают гиацинтовые острова, чтобы надежно расположиться на берегу и греться на солнышке, навсегда забыв о морях. Ну, скажите: зачем крокодилам моря? Крокодилы — речные жители…
Теперь Крокодил плавал не на каких-то там островах, он плавал, как плавают взрослые крокодилы: целиком погрузившись в воду, а наружу выставив только ноздри и глаза. Потому что нужно как-то дышать и нужно вовремя увидеть опасность. И вот так, выставив наружу глаза, он увидел однажды, как сын его от него уплывает, уплывает на гиацинтовых островах.
С тех пор прошло много лет, и сын, наверно, уплыл далеко — не только от отца, но и от своей собственной молодости. Когда наши дети уплывают от собственной молодости, они в какой-то мере приближаются к нам. Крокодил на это очень рассчитывал. Он рассчитывал, что сын будет ему утешением в старости: ведь старость у Крокодила долгая, поэтому его особенно долго приходится утешать.
Долго плавал Крокодил, высматривая своего сына, уже и надежду всякую потерял, а это еще хуже, чем потерять родственников. И вдруг видит: торчат из воды какие-то ноздри и глаза.
Нет, не какие-то! Крокодил сразу узнал эти ноздри и глаза, эти родные ноздри и глаза и впервые заплакал не от горя, от радости.
— Сыночек! — позвал он так нежно, что сам не узнал своего голоса. — Вынырни, покажись! Ты меня не узнал? Я же твой папа!