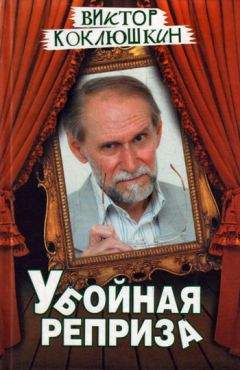Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 52. Виктор Коклюшкин - Коллектив авторов
Мы обошли горе и двинулись дальше. Теперь я еще внимательнее смотрел под ноги. Вспоминал названия растений: вот длинный с легкими розовыми цветами — иван-чай; рядом вытянулась тихая, но с характером — полынь; вот бандитское отродье — репейник; у бугорочка греется на солнышке лопоухая мать-и-мачеха. Названия все родные, близкие, словно сам когда-то рос с ними. Крапива, конечно, тут же, стерва!.. Отодвинул ее ногой.
— Михалыч, что это?!
— Это?.. — он наклонился. — Пуговица моя. Оторвалась, зараза! Примета плохая…
Он поднял пуговицу и раздраженно сунул в карман.
— Так вы что, в приметы верите?
— Ну какая разница: верю — не верю!.. Давай-ка возвращаться. Душа что-то не на месте!
Еще издали услышали возбужденный голос Валентина. Вышли на поляну к самолету — и остолбенели. Валька сидел на бочке из-под солярки (они что-то тут без нас делали), размахивал руками и увлеченно взахлеб повествовал: «Взяли ящик белого, ящик красного, остановили бортовую — и по газам! Утром просыпаюсь: я на елке висю… вишу, Леха — в кювете храпит, бутылки все пустые, а от машины одна монтировка осталась!..»
А перед ним на траве, скромненько подогнув ноги (ослепляя восторженного буровика фарами колен), сидела синеглазая, с какой-то бойкой, взлохмаченной прической девушка. От первого впечатления в памяти не осталось больше ничего. Только вот это: голубые глаза, доверчиво и с детской хитростью внимающие болтовне лихого буровика, и короткая — по шею, но какая-то прыткая, какая-то с капризом и вызовом прическа светлых, упругих волос.
— Нет, ну правда?.. Нет, ну правда?.. — повторяло это небесное создание.
Заметив нас, Валентин сконфузился и умолк. А девушка поднялась, одернула юбку и торопливо, напористо заговорила:
— Понимаете, мы с девочками…
— Какими еще девочками? — глухо, как раскаты грома, проговорил Михалыч и посмотрел на меня: «Ну что, верить мне в приметы?!»
— Понимаете, мы с девочками… С Таней, Олей и Наташей летели в Чумгамык, а наши ребята, из нашей группы, должны были…
— Какие ребята? Из какой группы? — Михалыч спрашивал, как муку молол — все до точки, все в пыль!
— Ребята: Ваня Кнушевицкий, Федя Бурлов, кто еще… Сережка Стахович, Алик Лозовой…
История ее вкратце сводилась к следующему: они, студенты агрополитического института, отправились на подмогу сельским труженикам в совхоз «Новая даль», где готовились собрать невиданный урожай (его и вправду никто не увидел), но она перепутала аэропорт, день вылета и номер рейса, хотя помнила все прекрасно. И забралась в «Ту-104» (обрадовавшись, что все-таки успела!) в багажный отсек. Залезла в спальный мешок и, сморенная усталостью, заснула.
— Ну и все! — беспечно, бодро и с облегчением закончила она. — Но я стучала, честное слово, я, когда проснулась, стучала…
Николай Николаевич из пилотской кабины осматривал в подзорную трубу окрестности, внутренне готовый увидеть что-нибудь заманчивое. И очень опасаясь обнаружить птицечеловека. Когда-то он знал этот пристальный стеклянный взгляд, нос, переходящий в клюв. Видел портрет у Серафимы Макаровны в Серпухове. Старушка жила на окраине, в маленьком флигеле бывшей барской усадьбы, и, помнится, все жаловалась на бывших владельцев, что крыша протекает.
Померанцев любил побродить по старым подмосковным городам с этюдником. Рисовать он не умел, но ему нравилось чувствовать себя художником — глядеть на мир свободно, легко, заинтересованно.
Вот у старушки в комнате Померанцев и видел поясной портрет птицечеловека. Помнится, он тогда спросил:
— А что это за чудо?
— Святой Лука, — ответила старушка.
— Какой же это Лука? — усомнился, помнится, Николай Николаевич. — С клювом. И в шерсти…
— Ну а я почем знаю. Люди сказывали — Лука. Они обманывать не будут. Разе им какая выгода?
— Выгоды-то нет, — помнится, ответил Николай Николаевич, — а странно…
Больше он тогда со старушкой спорить не стал и вскоре о странном портрете забыл.
Болотная даль была безоглядна и удручающе однообразна. Смотреть в такую деть все равно что в лысину, а не в глаза человеку.
Николай Николаевич вздохнул, пора было собирать собрание.
Собрание!
Расселись на траве в тени самолета, отчего Тушка как бы тоже был участником. Единодушно избрали президиум: Померанцева и Михалыча. Они сели перед нами, мы: Валентин, Рагожин и я — перед ними. Надя стояла поодаль, под крылом. Волновалась.
Сначала Михалыч обрисовал общую обстановку. И рассказал о горе.
По второму вопросу выступил Николай Николаевич. Он заявил:
— Мы не знаем, почему мы сели, но я знаю, что мы должны взлететь!
Ему хлопали долго и благодарно.
— А теперь переходим к пункту «разное», — сказал Михалыч. И все посмотрели на Надю.
— Пусть расскажет о себе! — выкрикнул Валентин.
Надя вышла вперед. Вышла из-под крыла на солнце робко и грациозно, но что такое?! Голубые, ясные глаза ее были полны слез. Дрогнувшим голосом она сказала:
— К-как же… к-как же можно говорить сейчас обо мне, если рядом… горе?
Ну уж точно, будто обухом по голове! И о горе помнили, и о птице, а вот чтобы самим сообразить, что важнее…
Возбуждение охватило нас. Все повскакали с мест и, перебивая, стали предлагать различные способы. Валентин с размаху предложил взять горе себе (вот это да!). «Мне все до феньки!» — весело кричал он. Михалыч предлагал разделить по-братски на всех, тем самым уменьшив тяжесть горя до возможного. Рагожин тоже порывался что-то сказать, но пока не знал что.
— Надо его похоронить! — догадался я. И… обрадовался, что это я придумал.
С лопатами на плечах, Михалыч — первым, я — замыкающим, тронулись в путь. Спешили, наступали друг другу на пятки, спотыкались. Не доходя нескольких шагов до горя, Михалыч поднял предостерегающе руку. Остановились.
Горе лежало тяжело, увесисто, больно. Яму начали копать сразу с четырех сторон: я, Валентин, Рагожин и Михалыч. Ловчее всего выходило у Валентина — он копал, как баловался: Михалыч — тот был более механичен, целенаправлен (такие люди детей любят, но играть с ними не умеют — привыкли все всерьез делать): Рагожин копал задумчиво, будто дал рукам команду и забыл о них. Я ненужно частил, быстро выдохся.
Между тем яма росла на глазах. Попался какой-то черепок, лошадиная челюсть с двумя вставными зубами… Померанцев нервно ходил по краю взад-вперед и поглядывал на часы. Надя ждала, затаив дыхание и молитвенно сложив руки.
— Может, хватит? — предложил я (первым предложил, значит, слабее оказался!).
— Мало еще, — сказал Михалыч, не разгибаясь.
— Ну теперь, вероятно, хватит? — выпрямился Рагожин.
— Должно хватить, — сказал Михалыч, — но надо еще. Про запас.
Края ямы уже возвышались над нами. Песок, который я выбрасывал наверх, почти весь скатывался мне за шиворот. Моя работа не имела смысла, но еще раз предложить я не решался.
— Ну, кажись, хватит, — Михалыч выпрямился, сдвинул фуражку и отер со лба пот. — Теперь в самый аккурат будет!
Яма получилась громадная, как мы там головы себе лопатами не посшибали — загадка. Вылезли. Валентин и Михалыч, вытянув лопаты, пошли к горю… Я обратил внимание: чем ближе они подходили, тем заметнее у них портилось настроение — вот оно что! Активные действия, направленные на борьбу с горем, парализуют людей. Я встал с лопатой за спиной Валентина — если он не выдержит, тогда я!..
Валентин выдержал. Помогли жизненный опыт и взгляд Нади. Она так смотрела на него и на Петра Михайловича, что скорее лопата согнулась бы, чем Валентин отступил!
Они подняли горе и… опустили в яму. Оно шлепнулось там, как грелка с водой. Мы торопливо начали забрасывать. Еще какие-то пузырьки и вздохи выходили из-под песка, еще шевелился рыхлый грунт и колыхался, но вот все стихло, а мы кидали, кидали и кидали лопатами песок.
Образовался небольшой холмик, мы обложили его дерном и отошли. Опершись на лопаты, стояли, смотрели…
— Большое мы дело сделали, — сказал я.