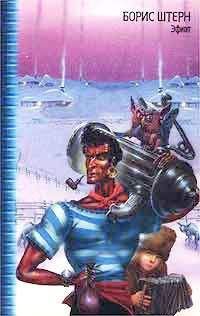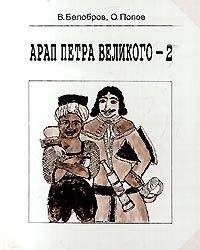Борис Штерн - Эфиоп, или Последний из КГБ. Книга I
Там же, под одеялом, дрожа и краснея, Элка почитывала запрещенную порнографическую литературу — например, «Что делать?» какого-то мизантропа Николая Ильина,[24] «Подземелье пыток» известного маркиза де Сада, бесстыдную повестушку «Возмездие» Алешки Толстого, за которую однажды в Офире Лев Толстой избил своего однофамильца до полусмерти, ну и незабвенного Святого Луку ohouyalynika Баркова.[25] Эту клубничку благородным воспитанницам приносил в лукошке преподаватель русской поэтики Владислав Ходасевич. В первом сочинении Элка ничего не поняла, потому что «Что делать?» Николая Ильина оказалось низкопробной порнографией, для промышленных рабочих, там было что-то совсем не интересное об удовлетворении базисных классовых потребностей фабричного и заводского пролетариата, из каковых потребностей вытекали побочные, надстроечные сексуальные пролетарские вожделения. Знаться с грубыми необразованными люмпенами Элке совсем не хотелось, вонючие и похотливые писания маркиза де Сада вызывали у нее тошноту, Барков просто срамничал и сквернословил из любви к сраму и сквернословию, зато похождения Алешкиной австрийской шпионки с русским офицером в купе поезда были ужас как хороши.
Потом Ходасевич провел семинар «О порнографии в искусстве».
— С какого конкретного момента, с какого-такого боку разработка эротического сюжета становится порнографией? — спросил Ходасевич воспитанниц. — Contez nous cela![26] — вскричали воспитанницы.
— Этот момент весьма неопределим. Один из первых критиков, читая «Руслана и Людмилу», находил, что «невозможно не краснеть и не потуплять взоров» от таких строк:
А девушке в семнадцать лет
какая шапка не пристанет!
Рядиться никогда не лень!
Людмила шапкой завертела;
на брови, прямо, набекрень,
и задом наперед надела.
— Для нас уже решительно непонятно, что в этих стихах могло показаться предосудительным нашему литературному прадедушке, — продолжал Ходасевич. — Его стыдливость представляется нам абсурдной. Мы, следовательно, считаем, что пределы стыдливости должны быть сужены, а пределы дозволенного бесстыдства расширены. До каких же, однако, пор?
Ответ на этот вопрос был дан на следующий день: нравы среди благородных девиц были еще те, какая-то подлая сучка донесла па Ходасевича и на подруг, Ходасевич был с грохотом изгнан, а смольные гувернантки в синих чулках произвели в тумбочках унизительный обыск без ордера и понятых. У Элки эти синие чулки нашли всего лишь ленинское «Что делать?» и, слава Богу, не догадались заглянуть под матрас, где прятались злополучный маркиз и фотографические открытки с банановыми гусарами. Разохоченные гувернантки продолжили повальный обыск, и добрая графиня крепко отомстила доносчице — она успела подсунуть той под подушку непотребного «Луку Мудищева», и когда старшая гувернантка прочитала: «На передок все бабы слабы, скажу, соврать вам не боясь, но уж такой блудливой бабы никто не видел отродясь!», то издала оральный горловой звук и упала в глубокий обморок.
Графиня Кустодиева, хоть и была похожа на купеческую дочь (что не преминул использовать в своем триптихе ее троюродный брат-художник; обнажалась ли Элка перед братом для третьей части «В парной» — неизвестно, вряд ли), не имела отношения к купеческому сословию и была не капитанской, а генеральской дочкой, но прадед ее (общий с троюродным братом) происходил из выкупившихся крепостных крестьян, а отец, генерал от инфантерии, выслужился из простых фельдфебелей на русско-турецкой войне; графиней же Элка стала по мужу-графу, по-своему ее любившему и никогда ей не изменявшему даже по причине ее фригидности.
Муж ее, граф, был добросовестным графоманом. По ночам он писал длинные романы а-ля Фенимор Купер, над ним потешались в редакциях и называли «графом», вкладывая в титул совсем другой смысл.
«Смотрите, граф, что вы написали: где это, ага, вот: „Боцман медленно стоял на палубе“.
«А разве можно стоять быстро?» — следовал возмущенный ответ, и редакторы, сдерживая хохот, лезли под столы.
«Граф, примите дельный литературный совет: читайте утром то, что написали ночью. „Пара матросов-оборванцев гурьбой направилась к графине“.
«Ну?» — говорил граф, не понимая.
«Это были конюшни, где держали лошадей».
«Что ж тут такого?» — удивлялся граф. — «Это фраза для дурака-читателя, который не знает, что такое „конюшни“. Или вот: „Ковыляя па одной ноге, вождь индейцев очнулся от мыслей. Кровь ударила ему в лицо, и он побледнел“.
«Не понимаю», — бормотал граф, медленно стоя посреди редакции. Потом он очнулся от мыслей. Кровь ударила ему в лицо, он побледнел и, ковыляя на одной ноге, вышел за дверь и хлопнул ею.
Граф также писал любовные стихи о какой-то Наталии и показывал их Элке, но Элка была уверена, что никакой Наталии в природе не существует, а графу она понадобилась только для рифмы:
Беззаветно люблю я Наталию.
Грудь и стаи ее, голос и талию,
И все прочее, что ниже талии.
Пусть всегда со мной будет Наталия,
А всех прочих пошлем мы подалее.
На диван сядем вместе с Наталией,
Положу я ей руку на талию,
И так далее, далее, далее…
Неплохие вроде стихи. Наталия в разных падежах также хорошо рифмовалась с Италией и баталией, ну и с самым сокровенным, что удалось придумать графу: «Наталии — гениталии», но он еще не придумал, куда эту рифму вставить. Об Элкипых альковных отношениях с мужем можно сказать следующее; по сексуальному закону единства противоположностей, о котором толковал в «Что делать?» Н. Ильин, муж графине достался лет на двадцать старше ее, годился ей в дедушки, но выглядел мальчиком — щупленьким прыщавым графинчиком, она его очень любила, боялась и совсем не чувствовала в постели — в первую брачную ночь граф чуть было не утонул в ней, долго барахтался и чудом выплыл. Так оно и продолжалось всю их недолгую постельную жизнь. Подруги подсунули Элке фотографическую книжку Алена Комфорта «Радости любви», где tous les details, toutes les poses sont deсscrits magistratement, sans aucun artifice,[27] но и книжка не помогла. В общем, граф как мужчина был какой-то недоделанный, детей у них не было, хотя графине очень-очень хотелось. Ее посетил русский Фрейд — Виктор Хрисанфович Кандинский — и определил у графини синдром Кандинского — особый вид галлюцинаций, когда звучат мнимые голоса, а образы существуют внутри сознания — так называемые псевдогаллюцинации.[28] Сексуальная же энергия графа сублимировалась по Фрейду и по Кандинскому в энергию служения отчизне. Началась война, хорошо умытая жизнь закончилась. В первый же день войны он записался вольнонаемным и запросился па передовую. «C'est un brave homme, mais се n'est pas tout a fait en regie la»,[29] — говорили о нем на призывном участке, в полку, на передовой и постукивали пальцем по лбу.
— Vous vous enroles pour la querre, le comte? Mon dieu, mon dieu![30] — вяло удивилась графиня.
Граф сумел храбро погибнуть в Восточной Пруссии в Брусиловском прорыве, подняв в атаку из окопной грязи свою роту и бежа с сабелькой, спотыкаясь и падая, на германскую пушку «Берту», и получил две пули одновременно — одну в грудь от врага, другую в спину от своих. Но пушку взял. О геройском подвиге ее мужа графине Кустодиевой сообщил его однополчанин, искалеченный поручик Свежович, единственный оставшийся в живых из роты, передавая ей как жене посмертный Георгиевский крест 1-й степени. Свежович прибыл к графине прямо из госпиталя, на каталке, без обеих ног, дворник внес его на руках па второй этаж. Графиня оставила инвалида у себя, целый год ухаживала за ним, кормила его, выносила его гулять, перестала появляться в высшем свете, потом поручик с тоски запил и отравился.
Так что графине на мужчин не везло. И все же природа брала свое: она часто представляла себя то подпольной революционеркой, которую насилуют в жандармском управлении здоровенные жандармы, то монахиней, участницей средневековых монастырских оргий; но вот появился африканец, и действительность превзошла самые смелые ее фантазии.
Гамилькар смотрел на графиню. Решалась ее судьба. Он окончательно решил забрать графиню с собой — но куда? Он начал разговор вокруг да около — готовить ее к эмиграции, уговаривать графиню согласиться на такой важный шаг, хотя она и так была согласна.
Графиня ничего не понимала: ее уговаривают уехать во Францию, но она согласна, она стремится уехать — а ее еще сильнее уговаривают. Она даже спела своему царскому негру глупенький шлягер:
Хочу туда, где бронзовые люди,
Хочу туда, где лето круглый год,
Хочу туда, где ездят на верблюде
И от любви качает пароход.
Гамилькар сердился, не понимал и опять уговаривал. Он описывал графине тяжелую жизнь в эмиграции. Полы будет мыть всему Парижу. Стирать сама себе трусы и бюстгальтеры. И прочие ужасы. По офирским законам Гамилькар должен был уговорить свою женщину, а женщина не должна была показать мужчине, чего она хочет. Когда графиня Кустодиева наконец поняла, что от нее требуется, то она наотрез отказалась отплывать во Францию: