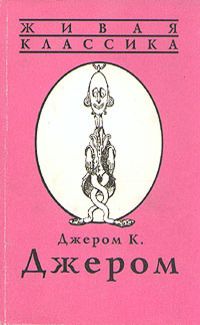Джером Джером - Трое в одной лодке, не считая собаки
Мы довольно долго ворчали. Мы говорили, что ему следовало по крайней мере выбелить эту лодку или хоть просмолить, чтобы ее можно было отличить от обломка затонувшего корабля. Но лодочник не видел в «Гордости Темзы» никаких изъянов.
Наши замечания как будто даже обидели его. Он сказал, что выискал для нас свою самую лучшую лодку и что мы могли бы быть более признательны.
Он сказал, что «Гордость Темзы», в том самом виде, в каком она сейчас находится перед нами, служит верой и правдой уже сорок лет и никто на нее еще не жаловался, и непонятно, с чего это мы вздумали ворчать.
Мы не стали с ним больше спорить.
Мы связали эту так называемую лодку веревкой и, раздобыв кусок обоев, заклеили самые неприглядные места. Потом мы помолились Богу и сели в лодку.
За прокат этого ископаемого на шесть дней с нас взяли тридцать пять шиллингов, хотя мы могли купить его целиком на любом дровяном складе за четыре шиллинга с половиной.
На третий день погода переменилась (сейчас я уже говорю о нашей теперешней прогулке), и мы отбыли из Оксфорда в обратный путь под мелким, упорным дождем.
Река — когда солнце пляшет в волнах, золотит седые буки, бродит по лесным тропинкам, гонит тени вниз со склонов, на листву алмазы сыплет, поцелуи шлет кувшинкам, бьется в пене на запрудах, серебрит мосты и сваи, в камышах играет в прятки, парус дальний озаряет — это чудо красоты.
Но река в ненастье — когда дождь холодный льется на померкнувшие воды, словно женщина слезами в темноте одна исходит, а леса молчат уныло, скрывшись за сырым туманом, словно тени, с укоризной на дела людей взирая, — это прозрачные воды мира тщетных сожалений.
Свет солнца — это кровь природы. Глаза матери-земли смотрят на нас так уныло и бездушно, когда умирает солнечный свет. Нам тогда грустно быть с нею: она, кажется, не любит нас тогда и не хочет знать. Она — вдова, потерявшая возлюбленного мужа; дети касаются ее руки и заглядывают ей в глаза, но она не дарит их улыбкой.
Мы гребли под дождем весь день, и невеселое это было занятие. Сначала мы делали вид, что нам приятно. Мы говорили, что нас радует перемена и что интересно наблюдать реку во всех видах. Нельзя же рассчитывать, что всегда будет солнце, да нам этого и не хотелось бы. Мы говорили друг другу, что Природа прекрасна даже в слезах.
Первые несколько часов мы с Гаррисом были прямо-таки в восторге. Мы пели песню про цыгана — какая приятная у него жизнь: он на воле и в бурю и под ярким солнцем, и ветер овевает его, и дождь его радует и приносит ему пользу, и смеется цыган над теми, кто не любит дождя.
Джордж радовался не так бурно и не расставался с зонтиком.
Мы натянули брезент еще до завтрака и не опускали его весь день, оставив лишь узкий просвет на носу, чтобы один из нас мог шлепать веслом и нести вахту. Таким образом мы прошли девять миль и остановились на ночь немного ниже Дэйнского шлюза.
Говоря по совести, не могу сказать, что мы провели вечер очень весело. Дождь продолжал лить с тихим упорством. Все, что было в лодке, отсырело и промокло. Ужин решительно не удался. Холодный мясной пирог, когда вы не голодны, быстро приедается. Мне ужасно хотелось жареной рыбы и котлет. Гаррис что-то болтал о камбале под белым соусом и бросил остатки своего пирога Монморенси. Но Монморенси отказался от него и, видимо, оскорбленный этим предложением, ушел на другой конец лодки, где и сидел в одиночестве.
Джордж попросил нас не говорить о таких вещах хотя бы до тех пор, пока он не доест свое холодное мясо без горчицы.
После ужина мы полтора часа играли в карты по маленькой. В результате Джордж выиграл четыре пенса — Джорджу всегда везет, — а мы с Гаррисом проиграли ровно по два пенса каждый. После этого мы решили прекратить игру. Гаррис сказал, что игра порождает нездоровые чувства, если ею слишком увлекаться. Джордж предложил нам реванш, но мы с Гаррисом решили не сражаться больше с судьбой.
После этого мы приготовили грог и сидели беседуя.
Джордж рассказал про одного человека, который спал в мокрой лодке в такую же ночь, как эта, и получил ревматическую лихорадку. Его ничем нельзя было спасти, через десять дней он умер в страшных мучениях. По словам Джорджа, это был совсем молодой человек, недавно помолвленный. Это была одна из самых печальных историй, которые он, Джордж, знал.
Это напомнило Гаррису об одном его друге, который записался в армию. В одну сырую ночь, в Олдершоте, он спал в палатке — ночь была совсем такая, как сегодня, — и проснулся утром калекой на всю жизнь. Гаррис сказал, что, когда мы вернемся, он нас с ним познакомит. На него прямо-таки больно смотреть.
Все это, разумеется, навело на приятный разговор об ишиасе, лихорадках, простудах, болезнях легких, бронхитах. Гаррис сказал, что было бы очень неприятно, если бы ночью кто-нибудь из нас серьезно заболел, ведь доктора поблизости не найти.
Такие беседы вызывали у нас потребность повеселиться, и я в минуту слабости предложил Джорджу взять свое банджо и попробовать спеть нам что-нибудь.
Должен сказать, что Джордж не заставил себя упрашивать. Он не говорил никаких глупостей вроде того, что забыл ноты дома, или чего-нибудь подобного. Он немедленно выудил свой инструмент и заиграл песню «Пара милых черных глаз».
До этого вечера я всегда считал «Пару милых черных глаз» довольно пошлым произведением. Но Джордж обнаружил в нем такие залежи грусти, что я только диву давался.
Чем дальше мы с Гаррисом слушали эту песню, тем больше нам хотелось броситься друг другу на шею и зарыдать. Сделав над собой усилие, мы сдержали подступившие слезы и молча слушали дикий, тоскливый мотив.
Когда пришло время подпевать, мы даже предприняли отчаянную попытку развеселиться. Мы снова наполнили стаканы и присоединились к пению. Гаррис дрожащим голосом запевал, а мы с Джорджем вторили:
О, пара милых черных глаз!
Вот неожиданность для нас!
Их взор корит нас и стыдит.
О…
Тут мы не выдержали. При нашем подавленном состоянии невыразимо чувствительный аккомпанемент Джорджа сразил нас наповал. Гаррис зарыдал, как ребенок, а собака так завыла, что едва избежала разрыва сердца или вывиха челюсти.
Джордж хотел начать следующий куплет. Он решил, что, когда он лучше освоится с мелодией и сможет исполнить ее с большей непринужденностью, она покажется не такой печальной. Однако большинство высказалось против этого опыта.
Так как делать было больше нечего, мы легли спать, то есть разделись и часа три-четыре проворочались на дне лодки. После этого нам удалось проспать тревожным сном до пяти часов утра, затем мы встали и позавтракали.
Следующий день был в точности схож с предыдущим. Дождь лил по-прежнему, мы сидели под брезентом в макинтошах и медленно плыли вниз по течению.
Один из нас — я забыл, кто именно, но, кажется, это был я — сделал слабую попытку вернуться к цыганской ерунде о детях природы и наслаждении сыростью, но из этого ничего ни вышло. Слова: «Не боюсь я дождя, не боюсь я его!» — очень уж не вязались с нашим настроением.
В одном мы были единодушны, а именно в том, что, как бы то ни было, мы доведем наше предприятие до конца. Мы решили наслаждаться рекой две недели и были намерены использовать эти две недели целиком. Пусть это будет стоить нам жизни! Разумеется, наши родные и друзья огорчатся, но тут ничего не поделаешь. Мы чувствовали, что отступить перед погодой в нашем климате значило бы показать недостойный пример грядущим поколениям.
— Осталось только два дня, — сказал Гаррис, — а мы молоды и сильны. В конце концов мы, может быть, переживем все это благополучно.
Часа в четыре мы начали обсуждать планы на вечер. Мы только что миновали Горинг и решили пройти до Пэнгборна и заночевать там.
— Еще один веселый вечерок, — пробормотал Джордж.
Мы сидели и размышляли о том, что нас ожидает. В Пэнгборне мы будем около пяти. Обедать закончим примерно в половине шестого. Потом мы можем бродить по деревне под проливным дождем, пока не придет время ложиться спать, или сидеть в тускло освещенном трактире и читать старый «Ежегодник».
— В «Альгамбре» было бы, черт возьми, повеселей, — сказал Гаррис, на минуту высовывая голову из-под парусины и окидывая взором небо.
— А потом мы бы поужинали у***[8], — прибавил я почти бессознательно.
— Да, я почти жалею, что мы решили не расставаться с лодкой, — сказал Гаррис, после чего все мы довольно долго молчали.
— Если бы мы не решили дожидаться верной смерти в этом дурацком сыром гробу, — сказал Джордж, окидывая лодку враждебным взглядом, — стоило бы, пожалуй, вспомнить, что из Пэнгборна в пять с чем-то отходит поезд на Лондон, и мы бы как раз успели перекусить и отправиться в то место, о котором вы только что говорили.