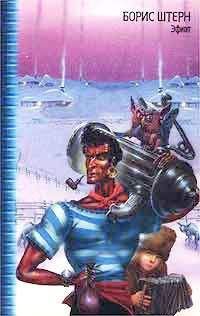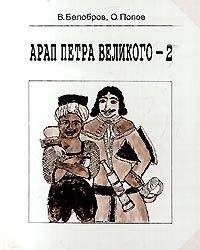Борис Штерн - Эфиоп, или Последний из КГБ. Книга I
— Принес? — спросил Гамилькар.
— Как условились, — ответил Гумилев и вытащил из мешка «Толковый словарь Даля», «Луку Мудищева» с предисловием Венгерова и «Полное собрание сочинений» Пушкина в издании Анненкова, которое Гамилькар собрался переводить.
Мешок сразу похудел и обвис на плечах.
Они купили двух ленивых ослов и отправились в Офир.
Гамилькар был похож на Пушкина, они и подружились на любви к Пушкину. Лучшим стихотворением Пушкина оба считали «Телегу жизни». В молодости Гамилькар учился в Кембридже и даже перевел «Телегу» на офирский язык. Трясясь на осле, Гамилькар читал наизусть:
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.
С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел, ыбенамать!
Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней
И косогоры и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!
Катит по-прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней
И, дремля, едем до ночлега —
А время гонит лошадей.[18]
Гамилькару очень нравилась последняя строка «А время гонит лошадей», ну и, конечно же, эта таинственная «ыбенамать», которой не было в словаре Даля и которую он произносил по-русски и слитно, не имея аналога в языке офир.
— Не ыбенамать, а ебена мать, — меланхолично поправил Гумилев, пиная ленивого осла. — Впрочем, можно и слитно, можно и через «ы». Это дело можно по-всякому. Между прочим, Пушкин обладал очень большим и нестандартным Кюхельбекером. Хоть ножки тоненькие, эротические,[19] зато Кюхельбекер у него был знатный — то, что надо.
— Что это есть «Кюхельбекер»?[20] — заинтересовался Гамилькар.
И Гумилев показал ему понятный, общечеловеческий жест согнутой в локте рукой.
— О, понял! — восхитился Гамилькар и налил пальмовое вино из бурдюка в большие кружки.
Так в увлекательных беседах проходило время.
— У нас, у русских, существует неосознанная тяга к Офиру, — говорил Гумилев, когда они делали последний переход через пустыню перед въездом в Офир, а на горизонте уже дрожали, как миражи, Лунные торы.
— Как и у офирян к России, — заметил Гамилькар.
— Почему так?
— Не знаю. Наши страны ни в чем не похожи. Офир — это райский сад, Россия — наоборот, райский зад. Львы, купидоны и Ганнибалы в России не водятся. А в Офире нет снега, медведей и Александров.
Самого Гумилева звали Николаем, но в душе он, конечно, был Александром, как Пушкин.
— Сходство в одном — ни Офир, ни Россию никто не мог завоевать, — сказал Гумилев. — Всех захватчиков уничтожали или прикармливали. Не мытьем, так катаньем. Для наших предков альтернативы не существовало: свобода родины и никаких гвоздей! — Он ударил ленивого осла кулаком по башке, и тот, отбрасывая копыта, припустил к райским вратам, которые наконец-то сверкнули на солнце у подножья Лунных гор.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 6
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА СТРАНЫ ОФИР
Комментарий к карте Офира из «Дневника» Н. С. Гумилева
Стихи в зачаточном прозо-состоянии:
Буйное Красное море, / страна схожа с разметавшейся африканской львицей. / Север — болото без дна и края, / змеи, желтая лихорадка на лицах. / Мрачные горы, вековая обитель разбоя, Тигрэ. / Бездны, боры, / вершины в снеговом серебре./ Плодоносная Амхара, там сеют и косят, / зебры любят мешаться в домашний табун. / Вeчер прохладен, ветер разносит / звуки гортанных песен; рокоты струн. /Было время, когда перед озером Гона / королевской столицей возносился Эдом. / Живописцы писали царя Соломона / меж царицею Савской и ласковым львом.
ГЛАВА 7
ОТЕЦ ПАВЛО И ГРАФФИТИ НА БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЕ
Граффити[21] — надписи гл. обр. бытового характера, нацарапанные на стенах зданий.
— Не токмо был, а есть и пребудет вовеки, как твой Ленин, от, — с досадой ответил отец Павло на вопрос о национальности Иисуса Христа, выходя из своей пещеры с обглоданным куриным крылышком в могучей руке и сторонясь диковинного «Кольиаго» с дисковыми колесами. Гайдамака оторвал попа от «Летописи», которую тот третий год писал в пику летописцу Нестору. — Зачем тебе это нужно, ослиное ты животное?
Если взглянуть на Сашка Гайдамаку глазами этого демократичнейшего попа — отец Павло был большим юмористом и церковным инакомыслящим, он проживал в прилавровой пещере, писал какую-то апокрифическую «Летопись», питался, чем Бог пошлет, сдавая пустые бутылки и прочую ересь, потому что церковники не давали ему приход и однокомнатную квартиру; «Будь проклят священнослужитель, которому ведомы слова, возбуждающие смех», — говорили церковники средневековое проклятие, — так вот, если взглянуть на Гайдамаку глазами отца Павла, то поп был прав: Гайдамака сейчас даже внешне представлял собой неустоявшийся маргинальный тип мафиозного спортсмена с беспризорно-советским прошлым: перекошенный лоб и расплющенный нос от частых падений с велосипеда и стальные нержавеющие зубы — кому охота связываться с таким мурлом?
— Вот так нужно! — Гайдамака провел ладонью по горлу.
— Читай Новый Завет, от, — посоветовал отец Павло, подумал и добавил: — И Ветхий тоже.
— И Библию, — невпопад сказал Гайдамака.
— Что? — переспросил отец Павло.
— И Евангелие, — сказал Гайдамака, почувствовав, что он что-то не то говорит.
— Пес ты, Сашок, — сказал отец Павло. — Неграмотный ты коммунист, от. Из-за своей широкой груди отец Павло имел привычку цеплять к окончанию чуть ли каждой фразы выдох «от».
Тогда Гайдамака под большим секретом поведал своему другу о белой ночи, о густом тумане и о черной жидовской морде в веночке из мелких белых розочек, заглянувшей в прорубленное окно шестого этажа.
— Ну, и как он на это звание отреагировал? — заинтересовался преподобный отец, любовно глодая куриное крылышко и не сводя пристального взгляда с «Кольнаго».
— Погрозил пальцем, повернулся и пошел себе, — ответил Гайдамака.
— Куда?
— Куда-куда… Туда куда-то… В Финляндию. К белофиннам.
— По воде, что ль?
— По воде.
— И ничего не сказал?
— Ничего. Только погрозил пальцем.
— Каким?
— Что?
— Каким пальцем погрозил?
— Двумя сразу, — Это он тебя перекрестил, от, — рассердился отец Павло, который, конечно же, был славянофилом, но не из тех, пришибленных, а по должности: на работе славянофил, а в быту — сущий космополитический интернационалист — кто нальет, с тем и пьет. — Нехорошо ты поступил, Сашко! Дай-ко проехаться на велосипеде. Подуматы трэба, от.
— На. Не жалко, — отвечал Гайдамака, хотя еще как жалко было ему призового «Кольнаго» стоимостью в 10 тысяч американских долларов, завоеванного в пыльной радиоактивной велогонке на «Кубке Мира» вокруг Чернобыля — этот Tour de Tchernouby состоялся в начале мая, через неделю после того, как крышу снесло с реактора.
Там, на Припяти, Гайдамака с этим опальным попом и познакомился, когда чуть не задавил его на трассе (такая, значит, у Гайдамаки была карма: давить на трассах священных особ), где отец Павло собирал вдоль дороги крупные красивые радиоактивные ландыши; отца Павла сослало тогда на Припять церковное начальство из-за его апокрифической летописи. Когда рвануло в Чернобыле, он оказался не у дел, без хаты, был насильно вывезен в Киев, ночевал в Ботаническом саду в кустах малины, пил водку со сторожем и учил его новой песенке:
"У полях працюе трактор,
За сэлом горыть рэактор.
Якщо знову пизданэ,
Не помoжэ и кабэрнэ",
потом вернулся под стены родного реактора к оставшимся прихожанам.
«Прочь с дороги, козел!» — успел крикнуть Гайдамака, но не успел отвернуть и завалил попа.
«Маргинал ты, ыбенамать! — отвечал ему пушкинским слогом отец Павло из-под колес велосипеда. — Что ж ты священных особ давишь, от! Смотри, куда едешь, жлоб!» Гайдамака принимал участие в разных престижных международных гонках (и всегда в роли подсадной утки: разогнать, растрепать караван, выложиться и расчистить дорогу идущему за тобой товарищу пo команде): Tour de France[22] — с проездом под Триумфальной аркой и Эйфелевой башней; в Tour de Moskou[23] — круг 16,5 км, старт на Васильевском спуске у гостиницы «Россия», с объездом Кремля и Красной площади с Мавзолеем; Tour de Berlin[24] — вокруг Берлинской стены. Он был уже велосипедным ветераном, никто из асов не хотел в той клятой чернобыльской гонке участвовать, радиоактивную пыль глотать, а Гайдамаку к международным гонкам уже года три не подпускали, потому что однажды в неразберихе между похоронами Андропова и Черненки, участвуя в Tour de Berlin, на него после победной командной гонки опять снизошел стих, и он, упившись шампанским, написал на Берлинской стене следующее граффити: