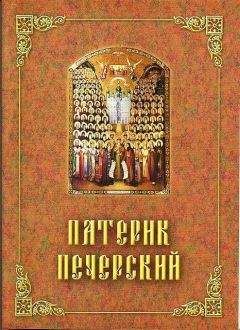Майя Кучерская - Современный патерик
Плоды покаяния
Случилось это очень просто — весь день я готовился к экзамену, сидел дома один, родители на выходные уехали на дачу. Одурел и вечером пошел погулять. Недалеко от моего дома книжный магазин в подвале, меня там знают, я часто покупаю у них разные книжечки. У них хорошо это дело налажено, и многое доходит быстрей, чем до больших магазинов. В этот раз я зашел, а продавец, странный немного парень, длинноволосый, задумчивый такой, Левой зовут, сразу ко мне. «Вот, — говорит, — книжка такая вышла, это круто! Ты какого года рождения?» — «Восемьдесят первого». — «Выглядишь старше». — «Мне многие говорят, это из-за бороды». А он: «Тогда это не для тебя, наверное, время твое было другое. А я вот именно так жил, как тут описано, потому что автору, как и мне, двадцать девять, и жил я тоже в маленьком городке. Как будто эту книгу я сам написал».
— А про что хоть?
— Да ты почитай, она недорогая. Там вроде и ни про что, но про эту самую нашу говняную жизнь, про школу.
И я эту книжку купил. Называлась она «Город». И прочитал ее за вечер, потому что написано было неплохо, ритмично так, а учебники читать я был уже не в состоянии. Книжка — про одного пацана, как он учится в последнем классе, живет в маленьком городе и только и делает, что курит, пьет пиво и думает о девчонках. Ну, и не только думает. Девчонки в их городе тоже простые, и вот одну этот паренек легко подцепил. После второй встречи она уже пригласила его домой. И вроде там не подробно все описано, но все равно, пока я читал, чем они там друг с другом занимались, уже все, чувствую — подпирает. Мне бы отбросить эту книжонку, как гадину, в ванную под холодный душ встать, помогает отлично, я даже туда пошел, в ванную, но вместе с книжкой. Она как будто прилипла к рукам. Я сел на краешек и дочитал. И тут же все то же самое проделал. Только без девчонки.
Сначала я просто сидел, как тупой. Потому что уже четыре года ничего такого со мной не было. С тех пор, как крестился. А тут вообще на пустом месте. Посмотрел на себя в зеркало — может, это вообще не я. Не, вроде я, только очень уж противная рожа. И тогда я стал бить себя по лицу, изо всех сил, ладонями наотмашь, стало больно, и я заплакал.
Наутро я пошел на исповедь. Было как раз воскресенье. Не к нам, а в другой храм. Молодой священник, которому я исповедовался, сказал, что это большой грех и причащаться мне пока нельзя. Но я и не собирался причащаться, просто хотел примирения. Примирения не произошло. Все стоят, молятся, потом начали подходить к причастию, потом целовать крест, хор поет себе, батюшка благословляет народ, а я стою один и не шевелюсь. Потому что какой-то отдельный, от нормального мира отрезан и существую в черном прозрачном ящике типа гроба. Гроб — это мой грех. Им-то хорошо, они так никто не нагрешили, я один — как животное. Батюшка! Я даже подумал для самооправдания, что все это случилось, потому что вас нет в городе. От этого исчезает чувство присмотра, что ли. Как будто сразу все можно: батюшка все равно уехал! Я не сознательно это думаю, но где-то во мне это живет. Наверное, мне просто еще недостаточно Бога, ведь Он тоже смотрит на нас, но почему-то Его взгляда я не чувствую так остро.
Потом я поехал домой и пока ехал, ждал троллейбуса на остановке, все было также: люди вокруг — идут, болтают, насупленные, веселые, кричат, улыбаются, девочка на самокате, ребята на великах, и небо такое синее, в облачках, запах чего-то сильно жаренного из окна, а я отдельно. Сижу на своей планете Грех. И улететь на землю меня не пускают. Это такое мне напоминание, чего я стою.
Пришел домой и не мог ничего делать. Исповедь совершенно не помогла! Все хотелось куда-нибудь спрятаться, деться, чтобы меня не было, такой свиньи и поганой сволочи. Попил воды, а есть не стал — буду хотя бы поститься и искупать. Открыл шкаф, выкинул половину одежды и сел там на какое-то тряпье, сверху еще накрылся пледом, чтобы Господь не смотрел на меня так строго и простил. Стало немного легче. Просидел довольно долго. Но тут зазвонил телефон, еле выполз, не успел. Снова зазвонил — предки с дачи по мобилу, проверяли, как поживаю. Да плохо, плохо! Обратно залезать в шкаф уже не хотелось, кое-как запихал туда вываленные шмотки, встал напротив иконы Спасителя с закрытыми глазами и начал молиться: «Господи, очисти меня и прости, не удержался, а ты все равно верни меня обратно». И земной поклон. Потом снова «Господи, очисти меня и помилуй, а ты все равно верни...» Земной поклон. Не знаю, сколько прошло времени. Я весь вспотел, устал и сел. Но гроб не распался. И билета для возвращения на землю мне никто не выдал. Взгляд мой упал на оранжевую обложку вчерашней книжки, я схватил ее, изорвал страницы и через минуту уже слушал, как она шуршит по мусоропроводу. Это шуршанье было как поглаживанье по измятой душе, и я приободрился. И понял, что срочно надо сделать какой-то сильный ход, хоть как-нибудь искупить, не поклонами, а вообще радикально. Надел кроссовки и снова пошел на улицу.
Я шел по дворам, а потом по нашему парку. Он длинный-длинный, можно ходить по нему несколько часов. Долго встречал одних мамаш с колясками, старуху с двумя собачками на поводке, сильно накрашенных девчонок в мини-юбках и на каблуках.
Недалеко от пятачка с игровыми автоматами и шашлыком мне наконец попалась компания ровесников: две девушки, трое парней, один из них качок. Его явно можно было раскрутить на любую драку, но мне вдруг не захотелось, чтобы их девчонки смотрели, как меня бьют. Я пошел дальше. И увидел их. Тех, кого надо. Они сидели на лавке в узкой аллее, человек пять, подростки лет 16—17, все уже очень хорошие. Они курили и пили пиво. Я подошел и спросил, нарочно погромче и понаглей: «Детки, а для меня пивка не найдется?» Один из них тут же встал, бритый, с сережкой в ухе, и обматерил меня. Остальные заржали. Тогда я слегка ткнул бритого в плечо, чтобы разозлить его и всех еще больше, но он был уже такой пьяный, что покачнулся даже от легкого толчка и осел на скамейку. А другие ребята, вместо того чтобы защищать его, опять загоготали «Куда тебе, Блоха, ну куда тебе?» Этот Блоха, видно, был у них крайний, никто за него заступаться не собирался. А сам Блоха вдруг страшно побледнел и пошел в кусты. Его друзья закричали: «Давай, давай, проблюйся как следует!» Я для них вообще был как мебель. И я пошел себе дальше, очень медленно, чтоб, если что, Блоха смог догнать меня. Но никто меня не догнал.
И опять никак не встречался никто подходящий, уже я вышел из этого парка, пошел по дворам и вот увидел двух мужиков. Один помоложе, другой пожилой, оба усатые, черные, похоже, продавцы с рынка, у нас тут рядом, они сидели на картонке, что-то ели из бумажных тарелок и запивали из пластмассовой бутыли вроде бы пивом. Но рядом стояла уже отставленная бутылка водки. Я подошел и сказал: «Гнать вас из Москвы поганой метлой! Что мусорите?» И пнул бутылку ногой. Она покатилась по асфальту, и старший, тот что потолще и попротивней, тут же вскочил, глаза у него загорелись. А молодой начал подниматься нехотя, ему явно хотелось сначала доесть. Я приготовился к бою. Как вдруг молодой крикнул: «Патруль!» Я оглянулся: во двор въехал милицейский «уазик» с открытыми окнами и направился прямо к нам. Мужики быстренько рванули в сторону, прошли двор насквозь и ушли в подворотню. Может, у них с этими ментами были свои дела. А я не стал никуда бежать, тихо побрел по двору, не прячась, прямо навстречу «уазику». Краснорожий мент, сидевший с моей стороны у окна, оглядел меня с головы до ног, «уазик» медленно проехал мимо. И я вспомнил Каина, которого никто не мог убить, потому что на нем была печать, и Господь не позволял никому его убивать. И мне Каина стало жалко.
Голова кружилась, я уже еле шел. И понял, что с утра не съел ни крошки. Только пил воду. А был уже почти вечер. Пошел к рынку, купил себе четыре хот-дога и все их тут же съел. Господи, прости меня, грешного и обжору. Батюшка! Как хорошо, что вы вернулись, может быть, вы поможете мне по-настоящему покаяться и принести плоды покаяния? А ящик этот гадкий разбить. Очень прошу молитв. Грешный Василий.
ОТПУСТ
Христос Воскресе
А кончилось все, как вообще никто не ждал.
Матушка Анна с сестрами вымыли полы, почистили подсвечники так, что они сияли, как солнца, расставили красные свечи, принесли из просфорни мешок еще теплых просфор. Отец Антипа привез из своего сада охапки белых роз и лилий, сестры украсили ими иконы. Запах свежеиспеченного хлеба мешался с тонким цветочным благоуханием, за окном накрапывал дождик, свежесть и сырость врывалась в распахнутые окна. Сестры собрались на левом клиросе, разложили по аналоям книги, расселись по лавочкам, кто-то дремал, положив голову на плечо подруге, кто-то читал молитвослов, мать Георгия листала толстую Цветную триодь.
Первой потянулась молодежь — отец Феопрепий, нечесаный и весь в каких-то перьях, видно, опять во что-то играл, высоченный отец Доримедонт, сдержанно и стеснительно рыгавший, отец Иаков с перевязанной рукой (упал, когда слезал с дерева), все время ежившийся отец Иегудил — постиранная к празднику ряса так и не просохла до конца. За ними вбрели сонные отец Гаврюша и инок Степаненко (две ночи подряд смотрели по видику боевики), оба озирались вокруг с явной печалью на лицах... Батюшки встали на правом клиросе, тут же начали щипаться и колоть друг друга специально захваченными щепками, но тут в храм вошла новая группа монахов с отцом Митрофаном во главе. Молодежь сразу же присмирела, подобралась, попрятала щепки в рясы и вытянулась в струну. Слух о том, что отец Митрофан невзирая на лица давал подзатыльники тем, кто шумел и неблагоговейно вел себя в церкви, был всем хорошо известен. Отец Митрофан оставил своих вышколенных подопечных на клиросе, а сам широким шагом вошел в алтарь.