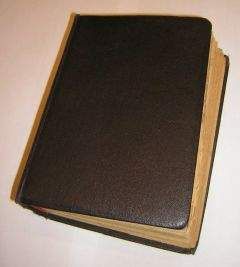Ярослав Гашек - Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны. Часть вторая
Когда Ванек вернулся и объявил, что Балоун уже привязан, поручик Лукаш сказал:
— Вы меня, Ванек, знаете, я не люблю делать таких вещей, но я не мог поступить иначе. Во-первых, вы знаете, что когда даже у собаки отнимают кость, так и она огрызается. Я не хочу, чтобы возле меня жил негодяй. Во-вторых, то обстоятельство, что Балоун привязан, имеет крупное моральное и психологическое значение для всей команды. За последнее время ребята, как только попадут в маршевый батальон и знают, что их завтра или послезавтра отправят на позиции, делают что им вздумается. — Поручик с измученным видом тихо продолжал — Позавчера во время ночных маневров должны были мы действовать против учебной команды вольноопределяющихся за сахарным заводом. Первый взвод, шедший в авангарде под моей командой на шоссе, более или менее соблюдал тишину, но второй, который должен был итти налево и расставить под сахарным заводом дозоры, тот вел себя как возвращающаяся с загородной прогулки молодежь. Поют себе и стучат ногами, так что в лагере было слышно. Кроме того на правом фланге шел на рекогносцировку местности около леса третий взвод. Это было от нас на расстоянии по крайней мере десяти минут ходьбы, а все же ясно было видно, как эти мерзавцы курят: повсюду огненные точки. А четвертый взвод, тот, который должен был быть арьергардом, чорт знает каким образом вдруг появился перед нашим авангардом, так что был принят за неприятеля, и я сам должен был отступить перед собственным арьергардом, наступающим на меня. Это была одиннадцатая маршевая рота, которую теперь мне дали. Что я из этой команды могу сделать? Как они будут вести себя во время боя.
При этих словах Лукаш сложил руки как на молитву и сделал мученическое лицо, а нос у него вытянулся.
— Вы на это, господин поручик, не обращайте внимания, — старался успокоить его старший писарь Ванек, — не стоит над этим и задумываться. Я вот уже был в трех маршевых ротах, и каждую из них вместе со всеми батальонами расколотили, а нас отправляли снова формироваться. Все эти маршевые роты были одна хуже другой, и ни одна из них вот настолько не была лучше вашей, господин обер-лейтенант. Хуже всех была 9-я. Та с собой потянула в плен всех унтеров и ротного командира. Меня спасло только то, что я отправился в полковой обоз за ромом и вином, и они проделали все это без меня. А знаете ли вы, господин обер-лейтенант, что во время последних ночных маневров, о которых вы изволили рассказывать, команда вольноопределяющихся, которая должна была обойти нашу маршевую роту, заблудилась и попала к Незидерскому озеру? Марширует себе все дальше и дальше до самого утра, а разведочные патрули — так те прямо влезли в болото. А вел ее сам господин капитан Сагнер. Они дошли бы, небось, до самой Шопрони, если бы не рассвело! — продолжал конфиденциальным тоном старший писарь, который смаковал подобные происшествия; ни одно из них не ускользало от его внимания. — Знаете ли вы, господин обер-лейтенант, — сказал он, интимно подмигивая Лукашу, — что господин капитан Сагнер будет назначен командиром нашего маршевого батальона. Прежде — как об этом говорил фельдфебель Гегнер из штаба — первоначально предполагалось, что командиром, как самый старший из наших офицеров, будете назначены вы, а потом будто бы пришел в бригаду приказ из дивизии, что назначен господин капитан Сагнер…
Поручик Лукаш закусил губу и закурил папиросу.
Обо всем этом он уже знал и был убежден, что с ними поступают несправедливо. Капитан Сагнер уже два раза обошел его в чине. Однако Лукаш только проронил:
— Не в капитане Сагнере дело…
— Не очень-то мне это по душе, — интимно заметил старший писарь. — Рассказывал мне фельдфебель Гегнер, что господин капитан Сагнер в начале войны вздумал где-то в Черногории отличиться и гнал одну за другой роты своего батальона под обстрел пулеметов прямо на сербские позиции, несмотря на то что это было совершенно гиблое дело и пехоте вообще там ни черта было делать, так как сербов с тех скал могла снять только артиллерия. Из всего батальона осталось всего восемьдесят человек; сам господин капитан Сагнер был ранен в руку, потом в больнице заразился еще дизентерией и только после этого появился у нас в полку в Будейовицах. А вчера будто бы распространялся в офицерском собрании, как он мечтает о фронте, что он готов потерять весь маршевый батальон, но себя докажет и достанет высший орден за свою деятельность (на сербском фронте он получил фигу с маслом), во теперь он или ляжет костьми со всем маршевым батальоном или будет произведен в подполковники, но маршевому батальону придется туго. Я так полагаю, господин обер-лейтенант, что этот риск и нас касается. Недавно говорил фельдфебель Гегнер, что вы очень не ладите с господином капитаном Сагнером и что он в первую очередь пошлет нашу 11-ю роту в бой на самые опасные места.
Старший писарь вздохнул.
— Я так полагаю, что в такой войне, как эта, когда столько войска и при такой растянутости линии фронта, скорее можно достичь успеха хорошим маневрированием, чем отчаянными атаками. Я был свидетелем этому под Дуклою, когда был в 10-й маршевой роте. Тогда все сошло совершенно гладко, скомандовали «не стрелять!» — мы не стреляли, а ждали, пока русские к нам приблизятся. Мы бы их забрали в плен без одного выстрела, только тогда около нас на левом фланге стояли идиоты ополченцы, так те так испугались, что идут русские, что начали удирать под гору по снегу, чисто на катке. Ну мы получили приказ, где указывалось, что русские прорвали левый фланг и что мы должны отойти к штабу бригады. Я тогда был в штабе бригады, куда принес на подпись ротную продовольственную книгу, так как не мог разыскать наш полковой обоз.
В это время в штаб бригады стали прибегать поодиночке ребята из 10-й маршевой роты, К вечеру их прибыло сто двадцать человек, а остальные, как говорили, будто бы заблудились во время отступления и съехали по снегу прямо к русским, чисто на тобогане[98]. Натерпелись мы там страху, господин обер-лейтенант! У русских в Карпатах были позиции и внизу и наверху. А потом, господин обер-лейтенант, господин полковник Сагнер…
— Оставьте вы меня в покое с господином капитаном Сагнером! — сказал поручик Лукаш. — Я сам все это отлично знаю. Не думайте только, пожалуйста, что, когда начнется бой, вы опять случайно очутитесь где-нибудь в обозе и будете получать ром и вино. Меня предупредили, что вы пьете горькую, и, взглянув на ваш красный нос, сразу увидишь, с кем имеешь дело.
— Это все с Карпат, господин обер-лейтенант. Там поневоле приходилось это делать: обед нам приносили холодный, в окопах у нас был снег, огонь разводить было нельзя, так нас ром только и поддерживал. И не будь меня, с нами случилось бы, что и с другими маршевыми ротами, где не было рому, и люди замерзали. Но зато у нас у всех были от рому красные носы, и это имело свою невыгоду, так как из батальона пришел приказ, чтобы на разведки посылать тех из команды, у которых красные носы.
— Теперь зима уже прошла, — многозначительно сказал поручик.
— Ром, как и вино, господин обер-лейтенант, на фронте незаменимы во всякое время года. Они, так сказать, подбадривают. За полкотелка вина и четверть литра рому солдат вам пойдет драться с кем угодно. Что это за скотина опять стучит в дверь, не может прочесть, что ли, на дверях: «Не стучать».
— Войдите.
Поручик Лукаш повернулся в кресле к дверям и увидел, что дверь медленно и тихо открывается. И также тихо в канцелярию 11-й маршевой роты вступил бравый солдат Швейк, отдавая честь уже в дверях. Вероятно, он отдавал честь уже тогда, когда стучал в дверь, читая надпись «Не стучать».
Швейк держал руку у козырька, и это очень гармонировало с его бесконечно спокойной беспечной физиономией. Он выглядел, как греческий бог воровства, облеченный в скромную форму австрийскою пехотинца.
Поручик Лукаш на момент невольно зажмурил глаза под ласкающим взглядом бравого солдата Швейка. Наверно, с такой любовью глядел блудный, потерянный и опять возвращенный сын на своего отца, когда тот в его честь жарил на вертеле барана.
— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять здесь, — раздался в дверях голос Швейка с такой откровенной непринужденностью, что поручик Лукаш сразу пришел в себя.
С того самого момента, когда полковник Шредер заявил, что опять посадит ему на шею Швейка, поручик Лукаш каждый день в мыслях отдалял момент свидания.
Каждое утро он думал: «Сегодня он не появится. Наверно, он там еще чего-нибудь натворил, и его еще там подержат».
И все эти комбинации Швейк разбил своим милым и простым появлением.
Швейк сначала бросил взгляд на старшего писаря Ванека и, обратившись к нему с приятной улыбкой, подал бумаги, которые вытащил из кармана шинели.
— Осмелюсь доложить, господин старший писарь, эти бумаги, которые мне выдали в полковой канцелярии, я должен отдать вам. Это насчет моего жалования и пайка.