Михаил Зощенко - Прелести культуры (сборник)
Ох, тут он очень возмутился, начал швыряться вещами, кричать и срамить меня за излишнюю склонность к грубому материализму.
– Я, – говорит, – жалею, что к тебе зашел. У меня такое было поэтическое настроение, а ты своими ручищами загрязнил мое чувство.
Стал он прощаться и уходить.
Я пытался ему рассказать, как я однажды встретил в Кисловодске одного носильщика с такими грустными глазами, что можно обалдеть. И при расспросе оказалось, что у него было ущемление грыжи. И теперь он должен бросить свою профессию.
Однако приятель не стал до конца слушать и, обидевшись еще сильней за нетактичные параллели и сравнения, холодно подал мне руку и при этом бормотал разные оскорбительные слова, – дескать, ты черта лысого понимаешь в поэзии. Сам прошляпил красоту в жизни.
Вот проходит что-то около полгода. Я позабываю эту историю. Но вдруг однажды встречаю своего приятеля на улице.
Он идет с расстроенным лицом и хочет не заметить меня.
Я подхожу к нему и спрашиваю, что случилось.
– Да так, – говорит, – разные неприятности. Ты мне накаркал – у жены, знаешь ли, легочный процесс открылся. Не знаю, теперь на юг мне ее везти или в санаторию положить.
Я говорю:
– Ну, ничего, поправится. Но, конечно, – говорю, – если поправится, то не будет иметь такие грустные глаза.
Он усмехнулся, махнул рукой – дескать, отвяжись – и пошел от меня.
И вот этой весной я встречаю его снова.
Он идет, подняв воротничок своего пальто. Вижу – морда у него расстроенная. Глаза блестят, но смотрят грустно и даже уныло.
– Вот, – говорит, – теперь сам, черт возьми, захворал туберкулезом. После гриппа. Конечно, может быть, и от жены заразился. Но вряд ли. Скорей всего от усталости захворал.
– А жена? – говорю.
Он говорит:
– Она поправилась. Только я с ней развелся. Мне нравятся поэтические особы, а она после поправки весь свой стиль потеряла. Ходит, поет, изменять начала на каждом шагу…
– А глаза? – говорю.
– А глаза, – говорит, – какие-то у ней буркалы стали, а не глаза. Никакой поэзии не осталось.
Тут я попрощался со своим приятелем и пошел по своим делам. И по дороге сочувственно поглядывал на тех прохожих, у кого грустные глаза.
1932
Испытание героев
Я, товарищи, два раза был на фронте: в царскую войну и во время революции, в гражданскую. Воевал, можно сказать, чертовски.
Однако особых героев я не знал.
А вообще говоря, герои были. Но особенно сильно запал мне в душу один человек.
Этот человек не был такой, что ли, очень крупный революционер или там народный предводитель, вождь или покоритель Сибири.
Это был обыкновенный помощник счетовода, некто Николай Антонович. Его фамилию я даже, к сожалению, позабыл.
А работал этот Николай Антонович совместно с нами в управлении советского хозяйства в городе Арюпино.
Нет, я никогда не был любитель работать в канцелярии! Мне завсегда хотелось найти более чего-нибудь грандиозное – какой-нибудь там простор полей, какие-нибудь леса, белки, звери, какой-нибудь там закат солнца. Хотелось ездить на велосипедах, на верблюдах, хотелось говорить разные слова, строить здания, сараи, железнодорожные пути и так далее и тому подобное.
Нет, я не был любитель перья в чернильницу макать.
Но, между прочим, пришлось мне поработать и на этом чернильном фронте.
Меня заставил пуститься на это дело целый ряд несчастных обстоятельств.
Я работал до этого в совхозе. Я имел командную должность – инструктор по кролиководству и куроводству.
Вот, имею я эту должность, и происходит у меня чудовищная пренеприятность.
А именно: стали у меня утки в пруде тонуть. То есть, скажите мне, бывшему инструктору по кролиководству и куроводству, что утка может в воде потонуть, я бы никогда этому не поверил и даже, наверное, грубо рассмеялся бы в ответ. Утка, можно сказать, существо вовсе и даже совершенно приспособленное к воде. Ей, по своей природе, вода доступна. Она плавает и ныряет прямо как утка, как рыба. И тонуть ей, ну, просто свыше не разрешается.
Однако у нас по неизвестной причине стали утки в прорубе тонуть. Куры, конечно, тоже параллельно с ними тонули. Но куры – это неудивительно, курам, по своей природе, тонуть допустимо. Но утка – это уже, знаете, слишком.
Тем не менее утки стали у меня тонуть. И за месяц потонуло у меня тридцать шесть уток.
Вот тонут у меня эти утки. А я – инструктор по кролиководству и птицеводству. И от этих делов у меня сердце замирает, руки холодеют и ноги отнимаются.
Стали мы наблюдать за этим делом. Видим – все в порядке. Прорубь на озере. Утки плавают и ныряют.
Вот они плавают, ныряют и забавляются. И видим мы, что обратно на лед они выйти не могут.
Другие утки, более мощные и которые похитрее, – те выходят при помощи своих собратьев по перу. Они нахально становятся другим уткам на голову и на что попало и после прыгают на лед.
А последние утки, более растерявшиеся и которым не на что опереться, – те, к сожалению, тонут. Они плавают подряд несколько часов, кричат нечеловеческими голосами и после, от полного утомления и от невозможности выйти на высокий лед, тонут.
Тут крестьяне из соседнего совхоза стали давать советы:
– Что вы, – говорят, – арапы, делаете с своей живностью! Вы, – говорят, – обязаны лед несколько поддолбить и песком его посыпать, а иначе, – говорят, – у вас вся птица на дно пойдет.
Тут, действительно верно, с нашей стороны был преступный недосмотр и, главное, незнание всей сути. И хотя в то время кой-какой экзамен на звание куровода мы и сдавали, однако о всех куриных тонкостях понятия не имели, тем более что экзамены мы сдавали во время голода, так что, собственно, даже и не до того было, не до экзаменов. К тому же мы сдавали в более южном районе, где зима бывает слабая и льду никакого нету. Так что таких вопросов, ну, просто не приходилось затрагивать.
Что касается своих совхозских ребят, то они, вероятно, кое-чего знали и понимали, но молчали. Тем более это им было на руку – они утонувших утей после составления акта жарили, парили и варили и, несмотря на утонутие, с наслаждением кушали их с кашей и с яблоками.
Вот потонуло у меня тридцать шесть утей, и, значит, дело дошло это до высшего начальства.
Вот начальство вызывает нас в управление, кричит и говорит разные гордые, бичующие слова, дескать, человек вы, без сомнения, в своем деле весьма опытный, ценный и понимающий, даже были ранены в начале гражданской войны, но поскольку, черт возьми, у вас утки стали тонуть, то это экономическая контрреволюция и шпионаж в пользу английского капитала. И если это так, то вы скорей всего не соответствуете своему назначению. Вас, говорят, мы, конечно, не увольняем, только сделайте милость, не работайте больше. А идите себе в управление – входящие бумаги, черт возьми, в папку зашивать.
Такие бичующие слова говорит мне высшее начальство и велит становиться в канцелярию.
Вот являюсь в канцелярию, в управление совхозов, и приступаю к своим прямым обязанностям.
А комиссаром в этом управлении был некто такой Шашмурин. Он был черноморский моряк. Очень такой отчаянный человек и дважды раненный герой гражданской войны. Но, между прочим, тем настоящим героем был не он. Настоящим героем оказался счетовод Николай Антонович.
Так вот, этот комиссар Шашмурин дело держал строго. Он опаздывать не разрешал, чуть что – ужасно ругался и всех работников канцелярии подозревал в том, что они мало сочувствуют делу коммунизма. И от этого вопроса он сильно страдал и волновался.
– Ну, конечно, – говорит, – еще бы, все вы, чуть что, морды свои отвернете. Ну-те, придет белая гвардия, и вы, – говорит, – обратно начнете свои канцелярские спины выгибать и разные чудные царские и дворянские слова говорить.
Белый же фронт, действительно верно, был от нас не очень далеко. Нет, он до нас не дошел. Но пока что он подвигался, и даже одно время мы ожидали падения города Арюпино Смоленской губернии.
И чем более, знаете, подвигался белый фронт, тем ужасней был наш военный комиссар Шашмурин.
Он очень всех ругал последними словами, волновался и выспрашивал каждого – какие кто имеет мысли и кому больше сочувствует – коммунистическому ли движению во главе с III Интернационалом или, может быть, дворянским классам.
Но, конечно, все уверяли его в полной своей преданности, божились, клялись и даже оскорблялись, что на них падает такое темное подозрение.
Одним словом, однажды комиссар Шашмурин устроил у нас в канцелярии штуку, за которую он впоследствии слетел со своей должности. Он получил строгий выговор, и, кроме того, его убрали в другой город за право-левацкий загиб и превышение власти.
А захотел он проверить, кто у него из вверенных ему служащих действительно враждебно настроен и кто горячо сочувствует власти трудящихся.
Нет, сейчас вспомнить про это просто удивительно. Это была сделана грубая комедия. Все шито-крыто было белыми нитками, но в тот момент никто комедии сгоряча не заметил, и все было принято за чистую монету.
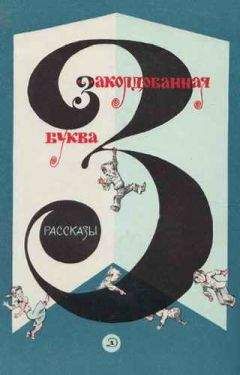


![Николай Лейкин - Наши за границей [Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно]](/uploads/posts/books/225932/225932.jpg)
