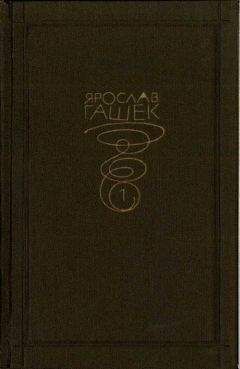Ярослав Гашек - Собрание сочинений. Том третий
— Ах, Элла, — сказала Геда, — ты бы уж лучше помалкивала насчет этой истории. Покойная Пуссви, которую отвели к колбаснику, хорошо знала того жеребца. Он выбирал себе только интеллигентных кобыл, и до нее у него была одна из цирка, которая умела бить копытом до восьми. И тем не менее он говорил, что она не знает, где право, где лево.
— Не ссорьтесь, девицы, — сказала Дарлинг, — не хватало еще, чтобы вы подрались. Да, я, кажется, говорила об осле и лошаке, как они были шармантны. Готовы были достать мне с поля кукурузные початки. К сожалению…
— В жизни не пробовала кукурузных початков, — решилась вставить слово Элла.
— Так слушай и не перебивай. К сожалению, мы вынуждены были расстаться. Как-то раз лошак сказал мне: «Мадемуазель, прощайте навсегда, завтра мне вспорют брюхо. Меня ждет жестокая работа на пользу вивисекции. Знаю, я помогу людям, потому что я лошак…» Очередь осла пришла позднее. Он тоже был прекрасно воспитан и прощался со мной подобным же образом. Радостно прокричал «и-а» и сказал, что с радостью отдаст жизнь ради людей, на то он и осел. Как я узнала позднее, мои дети, рожденные от этого краткого знакомства, таскают сейчас горные орудия в Боснии. Однажды я укусила главного ветеринарного советника, когда он проходил мимо. Совершенно нечаянно. Он протянул мне в перчатке кусок сахара, а я схватила его за указательный палец. Из института меня продали, и у меня началась новая жизнь. У одного крупного садовода меня запрягли в конный привод, которым черпали воду. С утра до вечера я ходила по кругу. Это была подготовка к здешнему ипподрому. Потом мне сказали нечто непонятное: меня продадут с аукциона. И меня действительно продали, но тот конный привод я не забуду никогда! Я ни о чем не думала и чувствовала только то, что я понемногу тупею. Это было прекрасно. Здесь, я бы сказала, другие условия. Здесь вы снова научитесь думать.
— Позвольте, — гордо сказала Лола, — вы считаете, что я не научилась думать? Как только у меня пройдет кашель, я снова поеду на соревнования, почему вы смеетесь?
— Моя золотая, кто сюда попал, тот погиб. Берите от жизни все что можно и ешьте сечку!
— Вижу, что не гожусь для вашего общества, — гордо возразила Лола. — Вы утратили идеалы, и вам осталась одна сечка.
Двери конюшни распахнулись.
— За нами пришли, — воскликнула Геда и подвинулась к кормушке, чтобы ее удобнее было отвязать.
— Будьте благоразумны, мадемуазель, — сказала Дарлинг Лоле. — Это ваше первое выступление.
На ипподроме оркестр еще не играл, только у столиков вокруг манежа сидели несколько девиц, сонно потягивая пиво и покуривая сигареты.
Лола, Геда, Дарлинг и Элла стояли оседланные на песке манежа.
— Взгляните на старушку у двери с надписью «Дамский туалет», — сказала Дарлинг, — я слышала недавно, как наш хозяин с хромым конюшим говорили, будто когда-то она ездила на ипподром вся в бриллиантах, а теперь вот отпирает ключом дамский туалет и ждет, чтобы ей дали крейцер. Прошлый раз кто-то бросил ей фальшивый пятак, и надо было слышать этот скандал.
— К тому же у нее кашель, — иронически добавила Геда.
— Я чемпионка Германии и среди таких сплетниц не останусь, — заржала Лола и принялась скакать по манежу.
Былая слава ударила ей в голову, решили позднее Дарлинг, Элла и Геда, а Лола между тем выпрыгнула и, как прежде через препятствия, стала перепрыгивать через столики.
На другой день ее продали мяснику. И уже прийдя на бойню, она гордо заявила старому хромому мерину:
— Запрещаю вам говорить мне «ты», я Лола из Шато д’Иль, у меня приз за стиплчез в Мангейме и за мужской заезд на кубок Брауншвейга.
По странному совпадению старушка, состоявшая при дамском туалете ипподрома, пришла к мяснику купить на 20 геллеров колбасы из славной идеалистки Лолы и сообщила, что именно в этот день сорок лет тому назад она бежала от графа с бароном…
Любовь в Муракезё
В архивах Надьканижи хранится запись, гласящая, что в 1580 году сюда пришли какие-то люди от реки Муры, которые напали на местный турецкий гарнизон (а Надьканижа находилась под управлением самого султана) и перебили его.
В этом документе сообщается также, что многие из тех людей были вооружены лишь топориками на длинных рукоятках и что, забрав в плен оставшихся в живых турок, они отвели их в свои родные края, накормили, показали женщинам и отпустили на свободу.
В архиве содержится еще жалоба господу богу на этих отпущенных турецких пленных, которые вернулись назад в город, снова им овладели и головы ни в чем не повинных городских советников отослали визирю в главный город жупы — Белград.
Когда я сиживал вечерами на равнинах Муракёза у реки Муры возле больших костров, далеко освещавших простиравшуюся вокруг степь, глядел на людей, собравшихся у костра, и слушал их рассказы, я вспоминал об этих записях в надьканижском архиве. Да, эти парни из Муракёза остались и теперь такими же. И теперь еще они могут проявить без оружия чудеса воинской доблести только ради того, чтобы показать женщинам своих пленных.
Подтверждает это хотя бы история Юры Копалия и заболянской Гедвики.
* * *Заболяны издавна славятся красивыми девицами и великолепными конями. (Да простят мне читатели это не очень галантное сопоставление!) В Муракёзе эти две «вещи» всегда ставятся рядом, и в песнях, тягучих, как гудение ветра по травянистым равнинам, поется, что парень из Муракёза хотел бы владеть статной девицей и статным конем. Поется в них еще, что парень посадил бы девицу на красавца коня и помчался бы с ней по Муракёзу до самой реки Дравы.
Там, за Дравой, он продал бы коня и купил своей красавице белый жемчуг и вышитый золотыми нитями кафтанчик. А потом он… Дальше в песне поется о не очень-то благородном деле: он, видите ли, украл бы своего коня, посадил бы на него возлюбленную и вернулся бы назад в Муракёз.
Вот об этих-то последних строках песни и поспорил я как-то с одним старым мурянином.
— Нет, какое же это воровство! — спорил со мной старик. — Конь-то был его собственный! Разве можно украсть у себя самого собственного коня? Ты говоришь: он его продал? Так ведь он продал ради шутки. Нет, нас, мурян, никто не обмишулит.
Действительно, обмануть мурянина не так-то просто. Однажды один торговец-еврей поселился в Блоте. Так что вы думаете? Уже за полгода он лишился всего и поспешил перебраться к венграм в Кёрменд, чтобы снова встать на ноги. Между прочим, он утверждал, что нет на свете девчат красивее, чем в Блоте. Но это неправда.
Что бы там ни говорили, все же самые красивые девушки — в Заболянах. Порасспросите-ка барышников, понравились ли им Заболяны. Они с восторгом расскажут вам, какие там водятся роскошные кони, и в заключение обязательно добавят:
— А если такого коня подведет вам девица из Заболян, да взглянет на вас, вы почувствуете такое блаженство, что забудете и торговаться.
То же самое утверждал и пан Полгар, старый опытный барышник из Надьвараждина. А ему-то уж нельзя не верить: ведь он объехал все деревни по берегам Муры, Дравы и Савы до самой венгерской пусты и очень любил заглядываться на девушек да одаривать их цветными алыми платочками.
Он подтвердит и то, что говорят о заболянских девицах: что их любовь не купишь за нитку жемчуга; об этом тоже поется в песне, начало которой мы уже слышали. Оказывается, когда парень вернулся со своей красавицей в Муракёз, подарив ей жемчуг и вышитый золотыми нитями кафтанчик, его неверная возлюбленная распрощалась с ним, сказав, что он может идти куда угодно, хотя бы даже в понизовье к туркам. Бедняга послушался и отправился на войну, иначе и быть не могло!
И в чужой земле, в стороне турецкой схоронил он свое горе!
В целом свете нет таких трудностей с любовью, как на этих зеленых равнинах у реки Муры.
Юро Копалия из Заболян испытал это в полной мере. И когда плыл он ночью в лодке по бурной реке Муре, по степям и равнинам на правом берегу разносился его отчаянный протяжный призыв:
— Гедвика! — отражавший всю неизмеримость его страданий.
Юро разбил это слово по слогам, чтобы как можно дольше тянуть такое прекрасное, такое дорогое ему имя, и в ночную тишину то и дело врывался его вопль:
— Гед-ви-ка!
Этот разрывающий сердце стон, плывущий по реке и прибрежным лугам, доносился даже до переправы у Малой Мухны, до которой от Заболян не меньше часа ходьбы. Услышав эти неразборчивые, идущие откуда-то с севера из темноты крики, паромщик всегда крестился, утверждая, что это опять буйствует Буланя. Но более рассудительные крестьяне, собиравшиеся у переправы, чтобы выпить и побеседовать, приписывали эти звуки не русалке Булане, а дерущимся между собой дрофам.
По несчастной случайности у крестьянина Григорича исчез как-то ночью пастушонок Шолайя. Тогда уж и самые рассудительные поверили, что и впрямь Буланя вышла на ловлю человеческих душ. А крестьянин Крумпотич, возвратившись однажды ночью с переправы, уверял даже, что разговаривал с Буланей прямо у самой переправы. Подтвердил это и паромщик Михал.