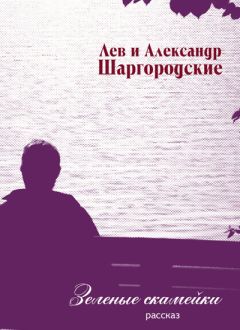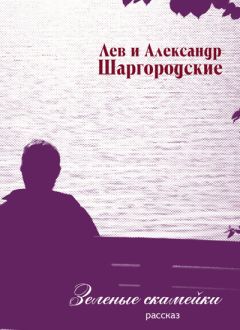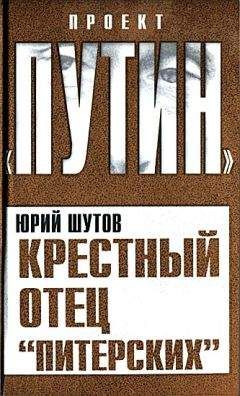Александр и Лев Шаргородские - Бал шутов. Роман
— Скажите откровенно, — начал он, — вы…
— Пятьдесят, — произнес Гуревич.
— Это вы мне уже сообщали… Зачем вы эмигрировали?
Гуревич примерил очки Плаксина.
— Я не люблю, когда пахнет изо рта, — сказал он.
— Причем это к эмиграции? — не понял Сима.
— Это к диплому, — пояснил Леви. — И потом, лично у меня уже не те силы, чтобы тянуть зубы. У вас не найдется какого‑нибудь диплома полегче, скажем, гинекологического?..
Сима заржал. В горах произошел обвал. Возможно, это было связано со смехом.
Принесли форель.
— Нет, нет, друзья мои, кто же так разворачивает фольгу? — испугался дантист. — Осторожнее, с правого края, с головы.
— Вы знаете, где голова? — удивился Гуревич.
Сима таинственно улыбнулся и разорвал фольгу. Голова была справа.
— Форель в собственном соку, — он причмокнул. — Вам почистить?
— Мы сами, — сказал Леви, — спасибо.
— Смотрите, это искусство.
— Значит, близко к нашей профессии, — вздохнул Леви.
Ели они молча. Сима боялся костей.
Гарик и Леви смотрели на ослепительную вершину и думали об одном и том же: зачем они сюда притащились — со своими грошами, с плохими зубами, без комбинезона, без диплома врача, не зная, как обращаться с горной форелью в собственном соку…
Сима обглодал рыбину и отодвинул тарелку.
— И все‑таки в Сан — Морице они готовят вкуснее, с миндалем. Вы не находите?
— Не люблю миндаль, — сказал Леви.
— А вот это зря, — Плаксин опять ржал, — это для нашего мужского дела первая вещь. Это, если хотите…
Закончить ему не дали.
На всем скаку у их столика затормозили на белых лыжах, в белых комбинезонах негр с белой женой.
Сима долго целовал негра, потом его белую жену.
— Мишка и Розка Шепс, — представил Сима. — А это наши гиганты — Гуревич и Леви. Не узнаете?
Розка всплеснула руками.
— Быть не может! Вы?! Последние гении покинули Россию!
Она повернулась к Гуревичу.
— Мы с Мишунькой сегодня за завтраком вспоминали этот ваш спектакль про сестер. Их было, кажется, четыре. Или даже пять. Мы тогда с ним чуть не сдохли со смеха… Между нами, сколько вы за него получили?
Гуревич ответить не успел.
— Пятьдесят! — выпалил Сима, перепутав суммы. И вновь заржал.
Мишуня Шепс смеялся сдержанно, интеллигентно.
— Вы инженер? — поинтересовался Леви.
— Техник! — отчеканил Мишуня. — По мостам.
— Мосты и туннели? — уточнил Гуревич.
— Нет, только мосты, — ответил Мишуня, — зубные.
Розка ржала открыто, уверенно.
У нее наверняка был маленький магазинчик. Где‑нибудь в Бремене.
Шепсы только что прибыли из Инсбрука. Австрийцы их раздражали.
— Церматт — это сказка, — сообщили они. — Вы здесь который раз?
— Второй, — соврал Леви, — обычно в Сан — Морице.
— Чего? — скривила губки Розка.
— Из‑за форели. Там с миндалем. Вкуснее. Вы не считаете?.. Это для нашего мужского дела первая вещь…
Розка вновь заржала.
— Чем торгуете в магазине? — поинтересовался Гуревич.
— Женское белье, — созналась Розка, — ночное…
Она осеклась — на них со склона летел третий негр.
— Шпунгин, — завопили Шепсы и Плаксин, — Здесь?! Ты же думал в Кортино д’Ампеццо.
— С Италией покончено, — заявил Шпунгин, поднимая снежную бурю, — обман, коррупция, вместо крабов подсовывают треску.
И здесь он узнал Леви. А потом и Гуревича.
Сбросив лыжи, очки и широко расставив руки, он двинулся на них.
— Ба, кого я вижу! Последние гении покинули Россию! Не верю своим глазам… Сегодня ночью я вспоминал ваших сестер. Сразу пятерых! Я так гоготал, что швейцар чуть не вызвал полицию…
Шпунгин надел очки.
Гуревич встал, гордо откинул голову куда‑то к горной вершине.
— Пятьдесят! — сообщил он.
Шпунгин заржал. И Шипсы. И Симка Плаксин…
Как вы знаете, громче всего ржут лошади в Церматте.
Первым, смахивая слезы, затих Симка. Затем Шипсы.
Шпунгин ржал дольше других. Село солнце. Съели всю форель. Он ржал.
— Коллега, — объяснил Плаксин. — Своя практика в Мюнхене…
Но Гуревич и Леви этого уже не слышали. Они выскочили из «Матушки Альмы» и вскочили в первый попавшийся кэб…
…Больше Гуревич и Леви в том кафе не сидели. Они устроились в маленьком ресторанчике, вдали от лыжных троп, от хромых, от ярких курток — и вновь приступили к работе над пьесой.
И им никто не мешал, пока мадам Штирмер не услышала их русскую речь, не обалдела и не присела рядом с ними.
Мадам была русской, родилась в далеком Харькове и каким образом вышла замуж за женевского банкира — оставалось тайной.
Она говорила, что по любви. Причем взаимной. Но, глядя на нее, поверить в это было тяжеловато…
Красивыми у мадам Штирмер были только волосы, оказавшиеся впоследствии париком, да наряды и украшения. Во что влюбился банкир — было загадкой. Не в свои же меха и бриллианты…
Что было ужасным — мадам на лыжах не каталась, и все время проводила с Гуревичем и Леви. Она оказалась большой поклонницей театра, сцены, и, как утверждала, засыхала на сухой женевской почве.
Она жаловалась на закрытость людей, ограниченность мужа, а также на Кальвина, запретившего несколько веков назад ее любимый театр…
— Конечно, у меня есть лошади, — говорила мадам Штирмер, — но разве я могу с ними говорить о Мейерхольде?
Гарик и Леви молча кивали головами.
— Ребята, — кричала она, — у меня есть все — дома, вертолет, бассейн — но я тону в нем от скуки. Спасайте меня!..
И она кидалась то на Леви, то на Гуревича.
Комик и гений страдали, они даже начали подумывать, не научиться ли им ходить на лыжах, чтобы уйти от мадам высоко в горы, но жена женевского банкира не давала им подниматься выше какого‑либо маленького холма.
— У меня горная болезнь, — объясняла она.
Вскоре за ней прилетел муж.
На собственном вертолете. И вдруг, прямо у трапа, она предложила Леви — он был с ней более корректен — лететь вместе с ними…
— Вы мне будете давать уроки актерского мастерства, — предложила она, — и рассказывать о театре… А я вам буду давать пять тысяч в месяц.
Леви закачало. Мадам Штирмер он переносил с трудом. Но с другой стороны, маячили эти проклятые пять тысяч. Швейцарских… Можно было бы начать копить на Иегуду.
«Всего каких‑то тринадцать лет вместо двадцати пяти, предложенных Раей», — думал он.
— Ну, что вы колеблетесь, — сказала мадам, — работа — не бей лежачего… Будем гарцевать на лошадях и рассуждать о театре.
— Я никогда не садился в седло, — признался Леви.
— Не волнуйтесь, посадят, — успокоила мадам.
Леви расстерянно обернулся к Гуревичу. Винт вертолета уже набирал скорость.
— Поезжайте, Леви, — сказал Гуревич, — уроки актерского мастерства на коне — это заманчиво. Я, во всяком случае, никогда на лошади репетиций не проводил…
— А как же вы? — спросил Леви.
— За меня не беспокойтесь. Вы когда‑нибудь видели, чтобы гении пропадали? Я буду думать над Иегудой. А вы зарабатывайте на него деньги.
— Садитесь быстрее, — кричала мадам, — муж уже ворчит, бензина сгорело на пятьсот франков.
Гуревич обнял Леви.
— Не выпадите, друг мой, — сказал он.
И Леви, подталкиваемый мадам Штирмер, полез в вертолет…
В конечном итоге Борис Сокол вышел через неделю — международная общественность подняла дикий шум.
Были возмущены все врачи. Особенно психиатры. Они объявили забастовку. Сотни сумасшедших болтались без присмотра.
На пятый день забастовки Борщ выпустил Сокола на свободу.
Когда Борис вышел, тайного общества «Набат» уже не существовало.
— Оно выполнило свою историческую функцию, — объяснил Борщ.
— А передача власти? — спросил Сокол.
— Вы действительно спятили? — поинтересовался Борщ.
— А где все члены? — спросил Борис.
— За рубежом нашей Родины, — патетически произнес Борщ.
Действительно, членов общества «Набат» нашли, включая Гурамишвили, валявшегося с одалиской под мандарином, посадили в самолет и выслали из страны.
Они волновались. Особенно Шустер — шутка сказать, свидание с исторической родиной после трехвекового перерыва.
Наконец, самолет сел. Они вышли. Шустер стал оглядываться, ищя Рейн, силуэт Кельнского собора, романские церкви.
Ничего этого не было — вокруг шастали люди в ермолках, горела реклама на иврит, было жарко.
— Странно, — протянул он, — я представлял себе Кельн совершенно иным.
— Кельн? — удивился работник аэропорта, — с чего вы взяли?.. Это Тель — Авив…
Бедного Шустера опять перепутали, и вместо родимой Германии приземлили на святой земле.
И всех остальных членов — там же.
Аймла прямо в аэропорту решил начать борьбу за отделение Эстонии. Но ему объяснили, что она пока еще к Израилю не прикреплена и бороться за отделение довольно трудно.