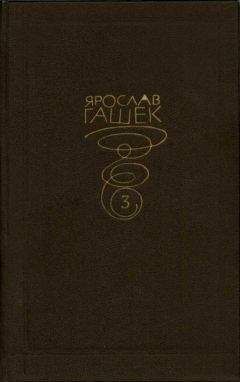Ярослав Гашек - Собрание сочинений. Том первый
— Какие тут шутки, — озабоченно ответил староста. — Господа художники, что у меня квартируют, видели их и намалевали.
— Ни в жисть не поверю! — провозгласил корчмарь Станко.
— Клянусь святым Станиславом! — воскликнул староста. — Господа художники встретили волков и намалевали на картине. Один из вельможных панов видел их на дороге, что ведет лесом от Строзы к Буйицам.
По корчме разнесся вопль: «Песьи бестии!» Это выкрикнул Юзеф Звара.
— Эй, волчьи бестии! Так, значит, на дороге в Буйице, куда мне идти свататься?
— А другой из вельможных панов, — продолжал староста — застиг их перед лесом, за нашей деревней.
— Вот это, я скажу, отвага у тех вельможных панов — малевать волков, — снова вступил в разговор Лембик.
— И как здорово они их припечатали! — добавил староста. — Один, так тот пасть растягивает и зубы скалит… А паны художники малюют. А другой как будто прыгнуть хочет, гоп! И тоже пасть распяливает, язык высунул, глазищи так и сверкают!
— Помилуй нас, отец наш небесный! — прошептал корчмарь Станко и перекрестился.
Все последовали его примеру и тоже перекрестились.
— Волки добрались аж до самой деревни, — снова заговорил староста. — Оторопь берет, как на них поглядишь. Глаза так и сверкают. Глядишь, глядишь и трясешься от страха. Так и чудится: вот сейчас выскочит на тебя с картины. Кто бы мог подумать! Двадцать лет о волках не было слышно. А тут сразу к самой деревне подошли. Даже малевать можно. И голодные, как я видел на картине, худые, кости можно пересчитать.
— Пришли сюда, поди, с Мазурских гор либо с Татранских, — отозвался старый Протка. — Пришли в долину Рабы полакомиться нами.
— Надо на них облаву устроить, — отважно произнес корчмарь Станко и добавил осторожно: — А много их?
— На одной картине я видел пять, — ответил староста, — а на другой, кажись, восемь. Но их будет больше. Художники не все малюют, что видят. Вот ведь пропустили те две березы, что на опушке. Знать, пропустили и какого-нибудь волка.
— Это дело серьезное, — отозвался Протка. — Придется рыть для них ямы, как делают на венгерской стороне. Роют яму, покрывают ее ветками, на ветки набрасывают снег, а сверху кладут кусок мяса. Волки подойдут, учуют мясо. Почему бы на него не наброситься? Прыгнет волк — и угодит в яму.
— Ну, я вам скажу, и отважные хлопцы эти паны художники, — снова взял слово староста. — Малюют, малюют, волки перед ними, а им нипочем, будто дерево малюют. И ничего не сказали. Это, видите ли, так, мелочь, пустяки: ну, что, соседи, думаете, будем копать ямы на волков?
— Это бы лучше всего, — согласились все. — Выкопаем ямы.
— Давайте сделаем это не откладывая, — предложил староста.
И так как решающее слово было произнесено главою деревни, это звучало как приказ.
Когда все шли с лопатами за деревню, Юзеф прошептал отцу:
— Свататься в Буйице не пойду. Жизнь мне милее.
— Сперва выкопаем волчью яму на лесной дороге к Буйицам, — распорядился староста.
Вечером оба художника возвращались из Буйиц в Строзу.
— Эти волки, думаю, произведут эффект, — произнес Влодек.
— Не сомневаюсь, — ответил Колдовский. — Они великолепны на фоне снега… Посмотри-ка, что это там, посреди дороги, — вдруг заинтересовался он.
— Похоже, гусь, — отозвался Влодек. — Идем, посмотрим, что это в самом деле.
— Земля здесь вся изрыта, — проговорил Колдовский. — Это…
Раздался треск, и оба в мгновенье ока провалились куда-то в глубину. Сверху на них посыпались ветви и снег.
— Это же волчья яма, — воскликнул Колдовский, опомнившийся первым. — Нужно громко кричать, чтобы нас высвободили. Наши картины действительно произвели большое впечатление… Понимаешь?
— Должно быть, в этом краю зимой очень страшно, — толковали зрители, столпившись возле картин, выставленных изобретательными художниками.
— Очень страшно, — подтверждали оба. — Представьте себе: однажды мы оба даже провалились в волчью яму.
Так об этом приключении отзывались художники. А Юзеф Звара в Строзе рассказывал:
— Кабы не эти волки, быть бы мне мужем Каськи. Слава богу, господь миловал! Домб, ее муж, уже дважды вешался: такой оказалась ведьмой…
Среди бродяг
Вечером в городской королевской тюрьме над Вислой жизнь шла своим чередом.
Внизу под окном расхаживали часовые с примкнутыми штыками; перед самой тюрьмой, на лужайке, густо поросшей травой, играли ребятишки и паслось несколько козлят.
Там, на другой стороне Вислы, за могилой Костюшко заходило солнце. Сверкнули в его лучах громоотводы домов у реки, последний багровый отблеск пробежал по камерам и сразу погас.
— Солнце садится, — проронил один из арестантов, стоявший у окна. — Через часок пора на боковую.
— Эх, Грабша, — откликнулся другой, лежавший на толстенном соломенном тюфяке, — завтра в это же время я уже буду дома, братцы.
— Бог в помощь, конечно, — сказал Грабша, не отходя от окна, — да разве наперед угадаешь. Я-то знаю. Сколько раз под конвоем водили! Помню, комиссар посулил: «Вечером будешь дома», а меня до деревни аж на третий день довели. По пути конвойный засиделся за рюмахой, пил до самого утра, а меня на всю ночь заперли в хлеву. По дороге его так скрутило, что пришлось топать обратно в корчму, желудок у него, видите ли, расстроился и все в этаком роде.
Договорив, Грабша уставился в окно, стал смотреть на воды Вислы.
— Пароход! — закричал он, обернувшись к арестантам. — Скорей! Смотрите, отплывает!
Все восемь обитателей камеры бросились к окну. Грабша подтянулся, уцепившись за решетку, чтобы лучше было видно.
— Вниз! — прикрикнул на него солдат.
— Да ты не серчай, — разъяснил Грабша, — ведь пароход там…
Невозмутимый солдат размеренным шагом прошествовал дальше.
— Шиш тебе собачий! — гаркнул Грабша на Ленковича, которому тоже захотелось посмотреть на пароход, плывший по реке.
Грабша спрыгнул с окна и заехал Ленковичу в ухо.
— Ты что, сукин сын, к нам лезешь, — гаркнул он на него, — ты же у меня полбуханки украл, подлюга, а теперь примазываешься, рожа твоя бесстыжая!
Все остальные арестанты отступили от окна в предвкушении азартной стычки. Поняв, что на него смотрят, Ленкович наклонил голову и стал размахивать кулаками, готовясь к бою.
Не успел он съездить Грабше по роже, как противник двинул ему прямо в поддых.
— Ату его, по-мазурски! — кричали стоявшие у окна, восхищенные точностью удара.
А Грабша коленями уже придавил Ленковича к полу и плевал ему в лицо:
— Вот тебе, слюнтяй, за мой хлеб!
Изловчившись. Ленкович схватил Грабшу за горло и не успел удивленный Грабша опомниться, как тот уже сидел на нем верхом, награждая оплеухами и приговаривая при этом:
— Знай наших из Вадовиц! Знай Михала, Ленковича сына!
В коридоре послышались шаги.
Грабша и Ленкович разошлись по своим углам. Надзиратель отомкнул дверь, зашел в камеру и скомандовал:
— Тюфяки на нары и спать! Грабша, за водой!
Тюфяки мигом оказались на местах. Грабша отправился за водой.
— Ну и здоров мужик! — признал Ленкович, когда он вышел.
— Да и ты не оплошал, — отозвался кто-то, — а как ты его на лопатки-то!
— Споем, что ли, — предложил кто-то, и все согласились.
И через окно на простор вырвалась старинная польская бродяжья песня:
Чем томиться по молодке,
Так уж лучше за решеткой.
— Хорошо поете! — сказал Грабша, вернувшись с водой. — А я новость принес. Маришка-то, нищенка, вернулась после суда. Сейчас лягу — расскажу, чего она мне наговорила, пока воду набирали.
Грабша растянулся на тюфяке и начал:
— Сказала, Ленковича шибко любит. Как пустят его дальше по этапу, так она попросится с ним.
Все, кроме Ленковича, засмеялись.
— Грабша, — невозмутимо ответил Ленкович, — что ж ты, старухе — и то покою не даешь? Выходит, нищий над нищенкой издевается.
— Да она дряхлая совсем, — сказал Грабша, — поди, шестьдесят скоро.
— Наша она, из Вадовиц, — продолжал Ленкович. — У ее сына хозяйство в Салае. Поля — сплошь чернозем.
— Чего ж она тогда милостыню просит? — удивился Грабша.
— Вот и просит, сволочь он этакая, — ответил Ленкович.
— Я бы его задушил собственными руками, — отозвался голос у окна, где лежал Грабша, — по-нашему, по-мазурски.
— Живьем бы его зажарить, — сказал другой, — это же надо: мать нищей по миру пустить.
— Каких только людей нет на белом свете. — Ленкович утер глаза. — Наплакалась Маришка-нищенка всласть. Просила она его: «Хоть в прислугах оставь, сыночек!», а он мать-старуху — за порог.
— Паразит! — выкрикнул кто-то. — Пустить бы ему красного петуха!