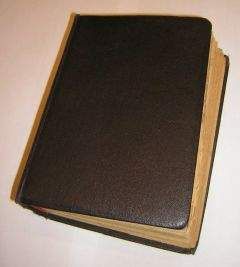Ярослав Гашек - Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны. Часть вторая
— Короче говоря, мадьяры — шваль, — закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил;
— Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
— Как это не виноват? — загорячился Водичка. — Каждый из них в этом виноват — тоже ляпнул! Попробовал бы ты попасть в такую переделку, в какую попал я, когда я приехал на курсы. В тот же день согнали нас, словно какое-нибудь стадо, в школу, и какой-то балда начал нам там на доске чертить и объяснять, что такое блиндажи, как копают основания и как производятся измерения. «А завтра утром, — говорит, — у кого не будет все это начерчено, как он объяснял, того он велит связать и посадить». — «Чорт побери, думаю, для чего я собственно говоря на фронте записался на эти курсы: для того чтобы удрать о фронта или для того, чтобы вечерами чертить в тетрадочке карандашиком, чисто приготовишка?» Такая, брат, ярость на меня напала, — сил моих не было. Глаза мои лучше бы на этого болвана, что нам объяснял, не глядели. Так бы все со злости на куски разнес. Я даже не стал дожидаться вечернего кофе, а скорее отправился в Кираль-Хиду и только о том и думал, как бы найти в городе какой-нибудь тихий кабачок, надраться там до положения риз, устроить дебош, съездить кому-нибудь в рыло и с облегченным сердцем пойти домой. Но человек предполагает, а бог располагает. Нашел я у реки среди садов действительно подходящий кабачок: тихо, что в твоей часовне, все словно создано для скандала. Там сидело только двое, говорили между собой по-мадьярски. Это меня еще больше подзудило, и я надрался скорее и основательнее, чем сам предполагал, и спьяна даже не заметил, что рядом находится еще одна комната, где собрались, пока я заряжался, человек восемь гусар, которые на меня и насели, как только я дал каждому из моих соседей разок по морде. Мерзавцы гусары гоняли меня по всем садам и так, брат, меня отделали, что я попал домой только утром и прямехонько в лазарет. Еле отбрехался, что свалился в кирпичную яму. Потом меня пришлось целую неделю в мокрую простыню завертывать, пока спина отошла. Не пожелал бы тебе, фат, попасть в компанию таких подлецов. Разве ж это люди? Это — звери!
— Как аукнется, так и откликнется, — сказал Швейк. — Нечего удивляться, что разозлились, раз им пришлось оставить все вино на столе и гоняться за тобой в темноте по садам. Они бы должны были: с тобой разделаться тут же на месте, а потом тебя выбросить. Если бы они свели с тобой счеты тут же у, стола, это было бы и для них лучше и для тебя тоже. Знавал я одного кабатчика, Пароубека, в Дибни. У него в кабаке перепился раз можжевеловкой бродячий торговец мышеловками и стал разоряться, что можжевеловка очень слабая, что кабатчик разбавляет ее водой. «Если бы, — говорит, — я сто лет торговал мышеловками и на весь свой заработок купил бы можжевеловки и сразу бы все выпил, то после этого мог бы еще ходить по канату, а тебя, Пароубек, носить на руках». К этому он прибавил, что Пароубек бешеная собака и гнусное животное. Тут Пароубек голубчика схватил, измочалил об его башку все его мышеловки, выбросил его на улицу, а на улице молотам по нем шестом, чем железные ролеты опускают (до того озверел), и погнался за ним через площадь Инвалидов в Карлине до самого Жижкова, а оттуда через Жидовские Печи[72] в Малешовицы, пока наконец не обломил о него шест, после чего мог наконец вернуться назад в Либень. Хорошо. Но в горячке он забыл, что в к|баке-то осталась вся публика и что, по всей вероятности, эти мерзавцы там начнут сами хозяйничать. В этом ему и пришлось убедиться, когда он наконец добрался назад в свой кабак. Железная ролета у кабака наполовину спущена и около нее двое полицейских, тоже основательно хватившие (когда наводили внутри порядок). Все, что в кабаке находилось, наполовину выпито, на улице пустой боченок из-под рому, а под прилавком два перепившихся субъекта, которых полицейские не заметили и которые, после того как их Пароубек вытащил, хотели заплатить ему по два крейцера: больше, мол, водки не выпили… Так-то наказуется горячность. Все равно, брат, как на войне: сперва противника разобьем, потом за ним да за? ним, а потом сами не знаем, как улепетывать…
— Я этих сволочей хорошо в лицо запомнил, — проронил Водичка. — Попадись мне на узенькой дорожке кто-нибудь из этих гусаров, — я с ними живо расправлюсь. Если уж нам, саперам, в голову что-нибудь взбредет, то мы на этот счет звери. Мы, брат, не то, что какие-нибудь там ополченцы. На фронте под Перемышлем был у нас капитан Ецбахер, сволочь, которой равную на свете не сыщешь. Так, брат, над нами измывался, что один из нашей роты, Биттерлих — хоть и немец, но хороший парень, — из-за него застрелился. Ну, мы решили, как только начнут русские палить, то капитану Ецбахеру придет каюк. И действительно; не успели русские начать перестрелку, мы, как бы невзначай, выпустили в него этак пять зарядов. Живучий был гадина, как кошка, — пришлось его добить двумя выстрелами, чтобы потом нам не попало. Только пробормотал что-то, да так, брат, смешно — прямо умора! — Водичка засмеялся. — На фронте такие вещи не сходят с повестки дня. Один мой товарищ (теперь тоже с нами в саперах) рассказывал, что, когда он был в пехоте под Белградом, его рота пристрелила во время атаки своего обер-лейтенанта, тоже собаку порядочную, который сам застрелил двух солдат во время похода за то, что те выбились из сил и не могли итти. Обер-лейтенант, когда увидел, что пришла ему крышка, начал вдруг свистеть сигнал к отступлению. Говорят, ребята при этом чуть не померли со смеха.
За таким захватывающим и поучительным разговором они добрели наконец до торговли железом пана Каконя на Шопроньской улице, № 16.
— Ты бы лучше подождал здесь, у ворот, — сказал Швейк Водичке, — я сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом приду назад.
— Оставить тебя одного? — удивился Водичка. — Плохо, брат, ты мадьяров знаешь, сколько раз я тебе творил! С ним мы должны быть осторожны. Я его ка-ак хрякну…
— Послушай, Водичка, — серьезно сказал Швейк, — дело не в мадьяре, а в его жене. Ведь когда мы с тобой и с чешкой-кельнершей сидели за столом, я же объяснил, что несу письмо от своего обер-лейтенанта и что это строгая тайна. Мой обер-лейтенант Христом-богом заклинал, что никто не должен об этом знать. Ведь твоя кельнерша сама согласилась, что это очень секретное дело и что никто не должен узнать о том, что пан обер-лейтенант переписывается с замужней женщиной. Ты же сам соглашался с этим и поддакивал. Я вам объяснил все, как полагается, что должен точно выполнить приказание обер-лейтенанта, а теперь ты хочешь во что бы то ни стало итти со мной наверх.
— Плохо, Швейк, ты меня знаешь, брат, — также весьма серьезно ответил старый сапер Водичка. — Раз я тебе сказал, что провожу тебя, то не забывай, что мое слово свято. Итти вдвоем всегда безопаснее.
— Я тебе докажу обратное, Водичка. Знаешь Неклапову улицу на Вышеграде?[73] У слесаря Воборника там была мастерская. Он был редкой души человек и в один прекрасный день, вернувшись с попойки домой, привел к себе ночевать еще одного гуляку. После этого он долго лежал, а жена его перевязывала ему каждый день рану на голове и приговаривала: «Вот видишь, Тоничек, если бы ты пришел один, я бы с тобой только слегка повозилась и не запустила бы тебе в голову десятичными весами». А он позднее, когда уже мог говорить, отвечал: «Твоя правда, мать, в другой раз, когда пойду на попойку, с собой никого не приведу».
— Недоставало бы еще, чтобы этот мадьяр захотел нам запустить чем-нибудь в голову, — рассердился Водичка. — Схвачу его за горло и спущу его со второго этажа по лестнице. Полетит у меня, что твоя шрапнель. С мадьярской шпаной нужно живо расправляться. Нечего с ними няньчиться.
— Водичка, да ведь ты много не выпил. Я выпил на две четвертушки больше, чем ты. Пойми, что нам подымать скандал нельзя. Я за это отвечаю. Ведь дело касается женщины.
— И ее хрякну, мне это все равно. Ты, Швейк, плохо, брат, старого Водичку знаешь. Раз, в Забеглицах, на «Розовом острове», одна этакая харя не хотела; со мной танцовать, — у меня, дескать, рожа опухлая. Правда, что и говорить, рожа у меня была опухлая, потому что я аккурат пришел с танцульки из Гостиваржа, но посуди сам, такое оскорбление от этакой шлюхи! «Извольте и вы, многоуважаемая барышня, говорю, получить одну, чтобы вам обидно не было». Разок ей смазал, а она свалила садовый стол, за которым сидела, вместе с папашей, мамашей и двумя братцами. Только кружки полетели. Но мне, брат, весь «Розовый остров» был нипочем. Были там знакомые ребята из Вршовиц[74], они мне и помогли. Излупили мы этак пять семейств с ребятами вместе. Небось и в Михле[75] было слыхать. Потом в газетах напечатали все честь-честью: на семейном гуляньи в таком-то саду, устроенном таким-то благотворительным кружком таких-то уроженцев такого-то города и так далее… А потому, говорю, как мне помогли, так и я всегда своему товарищу помогу, коли уж на то пошло. Не отойду от тебя ни на шаг, ни за какие коврижки. Плохо, брат, ты мадьяров знаешь… Не ожидал, брат, я, что ты от меня захочешь отделаться; свиделись мы с тобой после стольких лет, да еще при таких обстоятельствах…