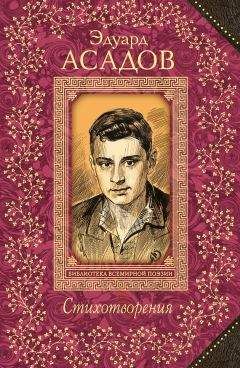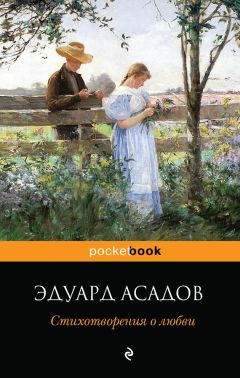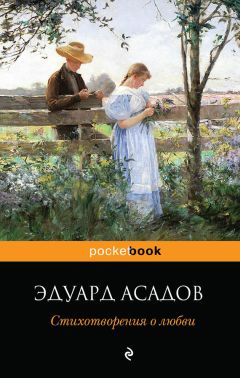Эдуард Асадов - Когда стихи улыбаются
Говорю ему:
— Да ты закрой батарею шерстяным одеялом. Будет прохладнее.
— А поможет? — спрашивает. — А то ведь в комнате у меня 28 градусов, как в Сахаре или в предбаннике.
— Ты, Вася, — говорю, — словно в душегубке. Закалочка будь здоров!
— Да что, Эдя! Ведь от такой жары даже вши лопаются!
Володя Солоухин смеется:
— Кстати, о вшах. У Мишки Дудина есть хорошая эпиграмма. Ну, вы знаете, наверно, что есть у нас в литературе два Володина. У обоих, конечно, фамилии — псевдонимы. Один драматург, а другой какой-то военный прозаик. Так вот Дудин выдал эпиграмму:
Дорогая родина,
Чувствуешь ли зуд?
Это два Володина
По тебе ползут…
А еще он выдал славную эпиграмму на абхазского писателя Ивана Тарбу — оглянулся по сторонам, — ну, в столовой его нет, ну да, вчера он уехал. Можно прочесть. Так вот, братцы. Иван — это имя нашенское, а по-ихнему он — Вано. Так вот Мишка Дудин написал в Гаграх такую эпиграмму:
По гагринскому пляжу
Идет поэт Вано.
По-ихнему он — классик,
По-нашему — говно…
А когда я сейчас возвращался из столовой, то в коридоре проходил мимо нескольких писателей. Один с жаром рассказывает:
— Понимаете, Лена выходит из троллейбуса: темень. Ну и чувствует, что за ней идут двое или трое. А в Тбилиси хулиганы, это не то что у нас в России.
— Вот именно, — сказал я, проходя мимо них, — в России хулиганы "поножовщики", а в Тбилиси — "поножопщики"…
Они все даже заверещали от удовольствия и стали хохотать.
* * *12 мая 1975 года. Переделкино.
Сейчас вышел я вечером прогуляться. Топаю по дорожке от веранды до ворот. Выходит Коля Доризо:
— Пойдем, Эдик, протряхнем талантишко по улице.
Вышли, болтаем о том о сем. Заговорили о Маяковском. Тут навстречу идет Валентин Петрович Катаев. Коля его спрашивает:
— Валентин Петрович, вот вы ведь хорошо знаете Маяковского, вы же встречались с ним многократно. Что у него за состояние было перед смертью? Неужели его мучили литературные неприятности или больше тут причины "лирического плана"?
Катаев:
— Ну как вам сказать, друзья мои, нет, я думаю, что тут не в литературных неприятностях дело, хотя неприятности всякие были. Ну да у кого они не бывают? Нет, думаю, что тут больше дело в бабах. Он ведь вообще был игрок, человек азартный и страстный, играл в карты часто и много и так же часто и много жульничал. В этом смысле он был абсолютный шулер. Играем, например, в "девятку". Он смотрит на банк, где довольно крупная сумма, и говорит: "У меня девять", — и берет, загребает весь банк. И никто не догадывается спросить: "А что у вас там, покажите!" А у него шестерка, и ничего больше. Ну, потом раскусили все-таки его, стали проверять. Однажды мы играли у меня дома: я, Юрий Олеша и Маяковский. Он обыграл нас в пух. Не знаю, честно или нет, но обыграл. А когда ушел, то мы остались подавленные и нищие. Тут Олеша сунул руку машинально в складку обивки кресла и вытянул трешницу, потом полез снова и вытянул еще. Так натаскали мы рублей тридцать. Это Маяковский оставил нам заначку, зная, что мы будем сидеть без копейки. Вот таким он был.
Ну, а что до баб, так он действительно гулял с Полонской. Это была очень хорошенькая девочка, он ее водил в рестораны совершенно открыто. У Бриков вообще ведь было заведено, что каждый мужчина должен иметь любовницу. Ну вот он и имел ее. А она имела от него аборт. Ну, а Маяковский вообще был по характеру максималистом, ему всегда нужно было все или ничего. Он умолял ее бросить Яншина, бросить все, остаться у него навсегда! Ну, а для этой девочки лет девятнадцати от роду он был чужд: огромный, басовитый, вспыльчивый, с огромным носом и огромным насморком. Она испугалась его: "Оставьте меня, я ничего не хочу!" Он сказал: "Тогда я застрелюсь, вот тут же, после твоего ухода". А она снова: "Ничего я не знаю, делайте что хотите". И ходу, а соседям сказала: "Он там стреляться хочет, а у меня репетиция, мне некогда!" И — на лестницу. Тут и выстрел за спиной. И все!
Коля Доризо спрашивает Катаева:
— А скажите, Валентин Петрович, вообще-то он был довольно сдержанным насчет женщин или нет?
Катаев смеется:
— Ни черта он не был сдержанным, мы вместе с ним по бабам ходили. У него была такая обширная записная книжка. Вот он набирает один номер телефона: "Верочку можно? Ах, нету дома?" Набирает сразу другой: "Танечку попросите, пожалуйста!" Ну и так далее. И для себя наскребет, и для меня постарается.
Коля деликатно:
— Ну да, вы тогда оба холостыми были, так что понятно, понятно.
Катаев:
— Ну при чем тут холостые или женатые? Какое это имеет значение? Когда идут по бабам, так идут по бабам, независимо от таких пустяков. Я, например, был уже женат. Ну и что из этого?
Заговорили о Юрии Олеше. Коля Доризо сказал:
— Перед его смертью я встретился с ним в клозете на улице Горького. Заскочил я туда, а Олеша стоит пьяный и кричит мне на весь клозет: "Коленька, увидел я тебя, и мне сейчас пришла в голову фантазия распить поллитровку с тобой вот тут, в этом богом забытом месте!" Тогда я отвечаю ему: "Юрий Карлович, но почему в клозете? Я тут не могу пить, я могу тут только, извините, наоборот!" Тогда Олеша начал обливать меня такой руганью, что, пока я шел по улице Горького, мне долго еще летели вслед его нелитературные "высказывания".
Валентин Катаев:
— Ну, это с ним бывало редко. Он вообще любил кончать все тихо-мирно. Писал он неровно. "ТРИ ТОЛСТЯКА" — это вообще ерунда сплошная. Вот перед смертью он написал приличную книгу о себе. Это да. Главное, не думал о мотивировках. Это правильно. Вот я тоже теперь так пишу. Никаких мотивировок. Как герой тут оказался, где до этого была героиня? Почему ей в голову пришла такая-то мысль? Я не забочусь теперь, чтобы поведать это читателю. Пусть он сам фантазирует, почему так, а не иначе.
Я возразил Катаеву:
— Ну, Валентин Петрович, так тоже нельзя. Какие-то вещи будут просто тогда непонятны.
Катаев:
— Ну и наплевать, что будет непонятно. Пусть он не покупает тогда мою книжку. Буду я перед ним распинаться и все объяснять.
Я спорить не стал. Понял, старик малость чудит. Заелся в мастерстве.
Заговорили о Бунине. Катаев говорит:
— Бунин был желчным, но красть не любил, ни мыслей, ни строк. А Маяковский и Алексей Толстой крали напропалую. Маяковский возьмет чью-то строчку, использует и говорит: "Все, теперь она за мной останется". Алешка Толстой, так тот прямо меня спрашивал: "Валя, ты крадешь? Ну и болван. А я краду. У бездарных, конечно. Им мысли или краски ни к чему, а у меня это сразу заиграет как надо". И точно играет, да еще как играет. Талантлив был, собака.
А с Буниным такая была история. Он во Франции завел роман при живой жене с русской поэтессой Кузнецовой. Вообще-то он бабником был жутким. Всю Нобелевскую премию, по-моему, между колен девкам прокидал. А тут всерьез увлекся. Она так и жила у него в доме вместе с женой. Молоденькая, хорошенькая. А он уже в солидных летах был. А кончилось все дело тем, что она изменила ему, да не с мужчиной, а с женщиной. И он возмущался страшно. Говорил: "Ну, я понимаю, если бы она увлеклась здоровенным прилизанным Дон Жуаном, а то женщина… Черт знает какое безобразие!" И совершенно поник после этого неудачного романа. Публике зарубежной он не нравился. Она его почти не знала. Он даже пытался писать "клубничку", так сказать, на эротике сыграть, все равно бесполезно. Так славы у него там и не было. Ну, ладно. Разболтался я. Пойду гулять. Вечер теплый — 25 градусов.
Вообще разговаривает Катаев с довольно заметным одесским акцентом, даже что-то местечковое в старости появилось в манере говорить. А так мыслит живо, никакого склероза. А ему сейчас 78 лет.
* * *Женщины всегда женщины! Они либо льстят друг другу, либо обмениваются шпильками. Середина бывает редко. Сейчас гуляю по моей дорожке переделкинской. В стороне стоят две пожилые дамы. Говорят громко. Обе рады встрече. Одну зовут Сара Львовна, а другую, кажется, Софья Григорьевна:
— Удивительное дело, Сара Львовна! Я вас совершенно не узнала!
— Не узнали, Софья Григорьевна, потому что я не накрасилась. Вот и все.
— Да нет, при чем тут краски. Просто мне кажется, Сара Львовна, вы очень изменились.
— Господи, ну что там могло измениться? Постарела я, что ли?! Вот еще глупости какие. (Сердится.) Просто, повторяю, перестала краситься, так как-то строже. И вообще приятнее.
— Да не выдумывайте, ради бога, Сара Львовна. Дело не в красках. Я не знаю, но просто вы очень изменились. Уверяю вас.
— Вы меня изумляете, дорогая Софья Григорьевна, никто не находит, что я изменилась хоть на капельку. Вот уж если кто и изменился, так это вы. Глаза, например, у вас стали абсолютно близорукими. Вы же в трех шагах ничего не видите. Вот вам и кажется, что я изменилась!