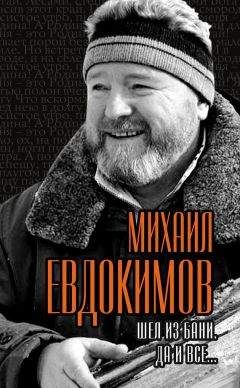Евгений Крыжановский - От аншлага до «Аншлага»
И вот открылся занавес. На сцене стояла декорация, изображавшая московский купеческий двор. Какое-то крыльцо, забор и… лужа! Я запомнил ее на всю жизнь. Художник-«новатор», фамилию его я уже не припомню сейчас, раздвинув рамки застойного творчества, применил оригинальное сценическое решение. Он сделал на сцене углубление, поставил туда оцинкованное корыто, наполненное водой, прикрыл его края зеленой тряпкой, изображавшей траву, и получил лужу, ставшую важнейшим действующим элементом спектакля. Все исполнители хоть раз, да вступали в нее, намекая этим, видимо, на грязь и порочность царского общества. А главный герой, купец, жуткий пьяница и дебошир, так вообще постоянно лупил по луже сапогами, нещадно обрызгивая зрителей первого «блатного» ряда, чем вызывал взрывы хохота и одобрительные аплодисменты тех, кто занимал последние ряды, то есть мог обычно только завидовать «блатным» и издали ненавидеть их.
Но сидел в первом ряду и «блатной» девятиклассник Женя Крыжановский с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами, впервые попавший в театр и впервые испытавший восторг, столкнувшись с «большим» искусством. То ли в луже он увидел не только грязь, то ли Островского артисты трактовали не так, как его учительница литературы, то ли игра их попала в унисон с колебаниями его наивной юношеской души, но он не вставал с места даже во время антрактов, боясь что-нибудь пропустить. У Станиславского, по-моему, есть фраза о том, что если после спектакля хоть у одного зрителя что-то шевельнется в душе и он изменится хоть на чуть-чуть в лучшую сторону, значит, люди, создававшие этот спектакль, не зря работали несколько месяцев и цели своей достигли. Ничего не скажу про других, но в тот вечер у одного зрителя (вы догадываетесь, у кого) произошло изменение не на «чуть-чуть», а достаточно существеннее. Он вышел из зала совсем другим человеком, за три часа «действа» буквально переродившись, воспринимая теперь окружающий мир совершенно по-другому, как будто у него (этого зрителя) добавилось органов чувств. Уходя из театра, я уже точно знал, кем хочу стать. Впечатление, которое произвел на меня спектакль, трудно передать словами. Ошалевший от увиденного, я решил пойти домой пешком, чтобы по дороге еще раз все прокрутить в памяти и лучше переварить. Актеры, видимо, уже давно разъехались по домам и занимались совсем другими, более прозаическими делами, а я все еще не мог прийти в себя.
В тот вечер в мире одним актером стало больше. Тем, кто не верит в любовь с первого взгляда, это, возможно, покажется странным. Но так получилось. И благодарить за это я должен артистов тульского театра, которые о своей роли в моей судьбе даже не догадываются. Потом, работая почти год рядом с ними, я так и не посмел им ни в чем признаться. Но до этого было еще очень далеко. Пока же я готовился к возвращению в Козельск и началу новой жизни…
В пьесе про пограничников в одном театре исполнитель главной роли вместо: «…Я отличный певун и плясун!» — радостно и громко прокричал на весь зал: «Я отличный ПИСУН и ПЛЕВУН!!!»
Однажды Евгений Евстигнеев оговорился в спектакле по пьесе Шатрова «Большевики». Выйдя от только что раненного Ленина в зал, где заседала вся большевистская верхушка, вместо фразы: «У Ленина лоб желтый, восковой…» он сообщил: «У Ленина… жоп желтый!..». Спектакль надолго остановился. «Легендарные комиссары» расползлись за кулисы и не хотели возвращаться.
Вернувшись из Тулы, я буквально на следующий день записался в драмкружок Козельского дома офицеров, несказанно удивив этим не только родителей и своих товарищей, но и самих членов драмкружка. Мальчики в самодеятельности — вообще большая редкость, а уж девятиклассник — это что-то совсем из ряда вон выходящее. Мне на радостях дали сразу одну из главных ролей в одноактной комедии Катаева «День отдыха». Я должен был играть рассеянного 80–летнего профессора, приехавшего в дом отдыха и запутавшего там всех, начиная с себя самого. Используя подручные материалы, наша гримерша изменила мою внешность, но с голосом и мыслями ничего поделать не смогла. Перед каждым выходом на сцену я испытывал жуткий страх, сковывавший мои движения и делавший голос еще более писклявым. Но, нет худа без добра. Моя неуклюжесть придавала образу, видимо, еще большую карикатурность и этим добавляла в зале смеха и аплодисментов, которых, на мое удивление, было намного больше, чем я ожидал.
Через несколько выступлений я уже осмелел и вошел во вкус, но в это время мужа нашей руководительницы перевели в другой гарнизон, она уехала вместе с ним, и наш обезглавленный драмкружок благополучно испустил дух.
Но главное было сделано — я испил глоток из «чаши» с приворотным зельем, а это значит — навсегда заразился тягой к сцене. Многие мои знакомые, работавшие когда-либо в театре, причем не только артистами, но даже администраторами или рабочими сцены, уйдя из театра, не могли без него жить. Их тянуло туда, как преступника на место преступления. Помню, один из них, достигнув немыслимых, опять же по тем временам, высот и став барменом (!), все равно не реже раза в месяц приходил к нам в театр им. Я. Купалы, где я тогда работал, угощал всех ворованным вином, хвастался заработками, но было видно, что, если бы в театре стали платить хоть чуточку больше, он с радостью бы вернулся. Кстати, если из театра уходят, изменяя своей профессии, то лишь из-за того, что семья (не актер) не выдерживает жизни на нищенскую зарплату. Короче говоря, театр — это разновидность сильного наркотика со всеми вытекающими последствиями.
Итак, летом 1972 года выпускник Козельской средней школы № 3 Женя Крыжановский впервые за всю историю не только школы, но и, наверное, самого Козельска, поехал поступать в театральное училище. Москва произвела на меня ошеломляющее впечатление. Забыв о завтраках, обедах и ужинах, толпа абитуриентов с горящими глазами носится от «Щуки» (училище им. Щукина при театре Вахтангова) к «Щепке» (училище им. Щепкина при Малом театре), потом в школу — студию МХАТа, оттуда в ГИТИС, за ним во ВГИК и т. д. Кто-то проходит сразу во все, кто-то во всех «срезается», кто-то доходит до второго или даже до третьего тура. Из уст в уста передаются легенды об абитуриентах прошлых лет, которых брали сразу в театр за то, что они покоряли приемную комиссию какими-то экстравагантными выходками или нарядами. Одна девочка у нас даже переодевалась в парня, сделав короткую стрижку, что было по тем временам немыслимым, и хотела этим поразить комиссию, но везде от нее старались поскорее избавиться, принимая, наверно, за гермафродита, потому что все свои женские признаки скрыть ей не удавалось. Запомнилась и другая девочка, заставившая рухнуть под стол комиссию, объявив от зажима: «Басня Крылова «Петушка и кукух»!»
Возле «Щуки» нам посчастливилось увидеть самого Ролана Быкова. Ролан Антонович, выйдя на крыльцо и будучи немного навеселе, поклонился толпе ошалевших абитуриентов и громко сказал: «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!»
Вообще, приемным комиссиям театральных институтов не позавидуешь. Сколько они должны прослушать песен, стихов, басен, отрывков прозы, пересмотреть танцев, чтобы из тысяч перепуганных претендентов, среди которых был и я, отобрать всего 20–25 будущих студентов. Потом, сам принимая вступительные экзамены в Институте культуры, я собирал в кулак всю свою волю, чтобы выдержать бесконечный поток «дыпламаваных баранаў» и «Мой милый, что тебе я сделала?» Но как же я их всех (абитуриентов) понимал!
Надо отметить, что каждое училище имело свою специфику, предъявляя требования к так называемой фактуре, то есть к внешним данным абитуриентов. Например, в школу-студию МХАТа брали преимущественно красивых и рослых парней и девушек, в Щукинском старались набирать характерных актеров, в Щепкинском особое внимание обращали на правильность речи, стараясь держать марку Малого театра, во ВГИКе, естественно, брали только киногеничных. Мое же, тогда обыкновенное, без особых примет, прыщавое лицо не удовлетворяло требованиям ни одного из перечисленных заведений. Еще не было сегодняшнего красавца-носа (я его называю достоянием республики), только начали пробиваться усы, короче, не было ничего, чем я могу гордиться сегодня. О таланте речь вообще не шла, так как в 17 лет он, даже если и есть, еще спит. Актер, по-моему, по-настоящему проявляет себя только где-то к 30 годам, видимо, поэтому большинство пьес написано в расчете на артистов среднего возраста.
Все означенное сводило мои шансы на поступление практически к нулю уже до начала экзаменов. А ведь нужно еще учесть, что на каждый курс приходилось не менее десяти детей московских знаменитостей, поступавших практически без конкурса. В Москве роль знакомств (или, по-народному, «блата») особенно велика.
По самым скромным подсчетам, там живет около несколько тысяч (!) актеров как известных, так и не очень, и у каждого есть дети или хотя бы знакомые, которым надо помочь. Кстати, по имеющимся у меня данным (из обычно достоверных источников) в Минске по «блату» ежегодно поступают всего 2–3 человека, в то время как в Москве — от 50 до 80 процентов.