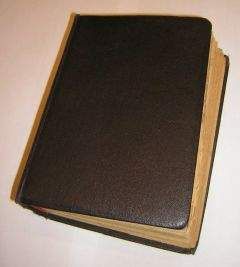Ярослав Гашек - Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны. Часть вторая
Поезд подошел к станции Табор, и Швейк, прежде чем проследовать за проводником к начальнику станции, доложил согласно дисциплине поручику Лукашу:
— Честь имею доложить, господин поручик, меня ведут к начальнику станции.
Поручик Лукаш не ответил. Им овладела апатия.
«Плевать мне на все, — пронеслось у него в голове, — и на Швейка и на лысого генерал-майора, что сидит напротив. Сидеть бы до Будейэвид, чтобы никто не трогал, а там сойти с поезда, явиться в казармы и отправиться на фронт с первой же маршевой ротой. На фронте подставить лоб под вражеские пули, — только бы уйти из этого несчастного мира, по которому шляются сволочи вроде Швейка».
Когда поезд тронулся, поручик Лукаш выглянул в окно и увидел на перроне Швейка, увлеченного разговором с начальником станции. Швейк был окружен толпой ожидающей публики, среди которой виднелось несколько железнодорожников.
Поручик Лукаш вздохнул. Вздох его не был вздохом сожаления. На душе у него стало легко, когда он увидел, что Швейк остался на перроне. Даже лысый генерал-майор уже не казался ему таким противным..
☆Поезд давно уже пыхтел по направлению к Чешским Будейовицам, а на перроне таборского вокзала толпа вокруг Швейка не убывала.
Швейк доказывал свою невинность и настолько убедил толпу, что какая-то старушка выразилась так:
— Опять к солдатику придираются.
Вся публика согласилась с этим мнением, а какой-то господин вызвался заплатить за Швейка двадцать крон штрафу: он был убежден, что этот солдат невиновен.
— Посмотрите на него только, — ссылался он на невинное выражение лица Швейка.
Швейк взывал к толпе:
— Братцы! Я не виноват!
Затем появился жандарм, извлек из толпы какого-то гражданина, арестовал его и отвел со словами:
— Вы за это ответите. Я вам покажу, как «нельзя требовать от солдат победы, когда с ними так обращаются». Я вам покажу, как народ подстрекать!
Несчастный гражданин не нашел других оправданий, кроме заявления, что он — мясник и «не то хотел сказать».
Между тем добрый господин, который верил в невиновность Швейка, заплатил за него в канцелярии начальника станции штраф и повел Швейка в буфет третьего класса, где угостил его пивом, и, выяснив, что все удостоверения Швейка и проездной лист находятся у поручика Лукаша, дал ему сверх того пять крон на билет и на дальнейшие расходы.
При расставании он откровенно сказал Швейку:
— Если попадете, служивый, к русским в плен, кланяйтесь от меня пивовару Земану в Здолбунове. Я вам на записке свое имя черкнул. Будьте благоразумны и долго на фронте не задерживайтесь.
— Будьте покойны, — ответил Швейк, — всякому занятно посмотреть чужие края, да еще задаром.
Швейк остался сидеть в буфете и помаленьку пропивал пятерку, полученную от случайного благодетеля.
Между тем на перроне шел обмен мнениями среди той части публики, которая не присутствовала при разговоре Швейка с начальником станции и только издали видела окружавшую их толпу. Преобладало мнение, что поймали шпиона, который фотографировал вокзал. Однако мнение это было опровергнуто одной дамой, утверждавшей, что дело вовсе не в шпионе, а в том, что, как она слышала, какой-то драгун зарубил шашкой офицера за то, что офицер ломился в дамскую уборную за возлюбленной драгуна, которая пришла провожать своего милого на войну.
Этим фантастическим версиям, характерным для нервной эпохи войны, положили конец жандармы, очистив перрон.
А Швейк продолжал пить, с нежной заботливостью думая о своем поручике: «Что-то он будет делать, когда приедет в Чешские Будейовицы и во всем поезде не найдет своего денщика?»
Перед приходом пассажирского поезда зал третьего класса наполнился солдатами и публикой. Преобладали солдаты. Их было много, различных полков, родов оружия и национальностей. Всех занесло ураганом войны в таборские лазареты, и теперь они ехали назад, на фронт. Ехали за новыми ранениями и увечьями, ехали зарабатывал себе простой деревянный намогильный крест где-нибудь на тоскливых равнинах Восточной Галиции, на котором через несколько лет еще будет трепаться под ветром и дождем полинялая фуражка австрийского образца с заржавевшей кокардой; изредка на крест сядет печальный старый ворон и вспомнит о сытых обедах минувших лет, когда для него по всему полю был накрыт пиршественный стол, заваленный аппетитными трупами людей и конской падалью; вспомнит, что под такими как эта фуражками были самые лакомые кусочки — человеческие глаза…
Один из кандидатов на тот свет, выписанный после операции из лазарета, в грязном мундире со следами ила и крови подсел к Швейку. Это был исхудавший, заморенный венгерец с грустными глазами. Положив на стол маленький узелок, он вынул истрепанный кошелек и стал пересчитывать деньги. Потом он взглянул на Швейка и спросил:
— Magyarùl?[4].
— Я чех, товарищ, — ответил Швейк. — Не хочешь ли выпить?
— Nem tudom barátom[5].
— Это, товарищ, не беда, — потчевал Швейк, придвинув свою полную кружку к грустному солдатику, — пей на здоровье.
Тот понял, выпил и поблагодарил:
— Köszenem szépen[6].
Затем он возобновил просмотр содержимого своего кошелька и вздохнул. Швейк понял, что венгерец с удовольствием заказал бы себе пива, но денег у него не хватит. Швейк заказал ему пива. Венгерец опять поблагодарил и стал с помощью жестов рассказывать что-то Швейку, показывая свою простреленную руку и прибавил на международном языке:
— Пиф-паф!
Швейк сочувственно покачал головой, а заморенный солдат из команды выздоравливающих, протянув левую руку на полметра от земли и выставив три пальца на правой, сообщил Швейку, что у него дома трое малых ребят.
— Нема ам-ам, нема ам-ам, — продолжал он, желая сказать, что им нечего есть.
Слезы потекли у него по лицу, и он утерся грязным рукавом шинели. В рукаве была дырка от пули, которая ранила его во славу венгерского короля.
Нет ничего удивительного в том, что за этим развлечением пятерка понемногу таяла, и Швейк медленно, но верно, отрезал себе путь в Чешские Будейовицы, с каждой кружкой, выпитой им и солдатом-венгром, теряя все больше и больше возможность купить себе билет.
Еще один поезд проехал в Будейовицы, а Швейк все сидел у стола и слушал, как венгерец повторял свое:
— Пиф-паф… Harom gyermek[7], нема ам-ам… Eljen![8]
Последнее он произнес, чокаясь со Швейком.
— Валяй, пей, мадьярская рожа, не стесняйся! — говорил ему Швейк. — Нашего брата вы, небось, так бы не угощали!
Сидевший за соседним столом солдат рассказал, что, когда их полк проездом на фронт вступил в Сегедин, мадьяры на улицах поднимали, как один, руки вверх.
Это была сущая правда, но по тону, каким это было сказано, было слышно, что солдат считал позором поднять руки и сдаться. Позднее это стало среди солдат чехов явлением обыкновенным. Да и венгерцы в последствии широко применяли этот жест, когда им уже перестала нравиться резня во славу венгерского короля.
Затем солдат пересел к столу Швейка и рассказал, как ребята его полка в Сегедине насыпали мадьярам по первое число и повыкидывали их из нескольких трактиров. Он одобрительно заметил, что и венгерцы умеют драться и что он сам получил такой удар ножом в спину, что его пришлось отправить в тыл лечиться.
Теперь он возвращается в батальон, и командир его, наверно, посадит за то, что он не успел как следует накостылять венгерцу, чтобы ему также осталось что-нибудь «на память» и чтобы поддержать честь своего полка.
— Ihre Dokumenten, фаши токумент? — обратился к Швейку начальник патруля, фельдфебель, сопровождаемый четырьмя солдатами со штыками.
— Я фижу фас фее фремя сидеть, пить, не ехать, только пить!
— Нет у меня документов, миляга, — ответил Швейк. — Господин поручик Лукаш из 91-го полка взял их с собой, а я остался тут на вокзале.
— Что такое «миляка»? — спросил по-немецки фельдфебель у одного из своей свиты, старого ополченца. Тот, видно, не слишком добросовестно исполнял свои обязанности по отношению к начальству; он спокойно ответил:
— «Миляга» это все равно что «господин фельдфебель».
Фельдфебель возобновил разговор со Швейком:
— Токумент долшен кашдый зольдат. Пез токумент посадить зукинова сина, как сопаку.
Швейка отвели в комендатуру при станции. В караульном помещении Швейк нашел команду, состоявшую из солдат вроде старого ополченца, который так верно перевел слово «миляга» на немецкий язык своему прирожденному врагу — начальству.
Караульное помещение было украшено литографиями, которые военное министерство в ту пору рассылало по всем учреждениям, где проходили призванные массы, по казармам и военным училищам.
Первое, что при входе бросилось бравому солдату Швейку в глаза, была картина, изображающая, согласно надписи на ней, как командующий взводом Франтишек Гаммель и отделенные командиры Паульгарт и Бахмайер 21-го стрелкового его величества полка призывают команду к стойкости.