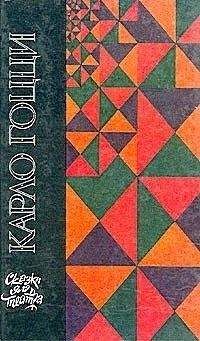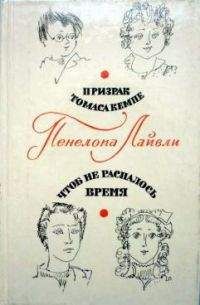Александр Покровский - 72 метра. Книга прозы
Демидыч у нас волжанин и ужасно окает.
– Демидыч, так они ж все белые…
– А тебе не все ровно? Бери, что доют.
Когда у механика разболелись зубы, он приполз к Демидычу и взмолился:
– Папа (старые морские волки называет Демидова Папой)… Папа… не могу… Хоть все вырви. Болят. Аж в задницу отдает. Даже геморрой вываливается.
– Ну довай…
Они выпили по стакану спирта, чтоб не трусить, и через пять минут Демидов выдернул ему зуб.
– Ну как? Полегчало? В задницу-то не отдоет? – заботливо склонился он к меху. – Эх ты, при-ро-да… гемо-р-рой…
Механик осторожно ощупал челюсть.
– Папа… ты это… в задницу вроде не отдает… но ты это… ты ж мне не тот выдернул…
– Молчи, дурак, – обиделся Демидыч, – у тебя все гнилые. Сам говорил, рви подряд. В задницу, говорил, отдает. Сейчас не отдает? Ну вот…
Когда наш экипаж очутился вместе с лодкой в порядочном городе, перед спуском на берег старпом построил офицеров и мичманов:
– Товарищи, и наконец сейчас наш врач, майор Демидов, проведет с вами последний летучий инструктаж по поведению в городе. Пожалуйста, Владимир Васильевич.
Демидов вышел перед строем и откашлялся:
– Во-о-избежание три-п-пера… или че-го похуже всем после этого дела помочиться и про-по-лос-кать сво-е хозяйство в мор-гон-цов-ке…
Голос из строя:
– А где марганцовку брать?
– Дурак! – обиделся Папа. – У бабы спроси, есть у нее мор-гонцовка – иди, нет – значить, нечего тебе там делать… Еще вопросы есть?..
Наутро к нему примчался первый и заскребся в дверь изолятора. Демидыч еще спал.
– Демидыч! – снял он штаны. – Смотри, чего это у меня от твоей марганцовки все фиолетовое стало? А? Как считаешь, может, я уже намотал на винты? А? Демидыч…
Демидов глянул в разложенные перед ним предметы и повернулся на другой бок, сонно забормотав:
– Дурак… я же говорил, в мор-гон-цов-ку… в моргонцовку, а не в чернила… Слушаете… жопой… Я же говорил: вопросы есть? Один только вопрос и был: где моргонцовку брать, да и тот… дурацкий…
– Так кто ж знал, я ее спрашиваю: где марганцовка, а она говорит: там. Кто же знал, что это чернила? Слышь, Папа, а чего теперь будет? А?
Отведавший фиолетовых чернил наклонился к Демидову, стараясь не упустить рекомендаций, но услышал только чмоканье и бормотание, а через минуту в изоляторе полностью восстановился мощный архиерейский храп Папы.
Полудурок
Вас надо взять за ноги и шлепнуть об асфальт! И чтоб череп треснул! И чтоб все вытекло! А потом я бы лично опустился на карачки и замесил ваши мозги в луже! Вместе с головастиками!
Военные разговоры перед строемКапитан третьего ранга на флоте – это вам не то что в центральном аппарате. Это в центре кап-три – как куча в углу наложена, убрать некому, а на флоте мы, извините, человек почти. Конечно, все это так, если ты уже годок и тринадцать лет отсидел в прочном корпусе.
Вот пришел я с автономки, вхожу в штабной коридор на ПКЗ и ору:
– Петровского к берегу прибило! В районе Ягельной! Срочно группу захвата! Брать только живьем! – и из своей каюты начштаба вылетает с готовыми требуками на языке, но он видит меня и, успокоившись, говорит:
– Чего орешь, как раненый бегемот?
А начштаба – наш бывший командир.
– Ой, Александр Иванович, – говорю я ему, – здравия желаю. Просто не знал, что вы здесь, я думал, что штаб вымер: все на пирсе, наших встречают. Мы ведь с моря пришли, Александр Иваныч.
– Вижу, что как с дерева сорвался. Ну, здравствуй.
– Прошу разрешения к ручке подбежать, приложиться, прошу разрешения припасть.
– Я тебе припаду. Слушай, Петровский, ты когда станешь офицером?
– Никогда, Александр Иваныч, это единственное, что мне в жизни не удалось.
Начштаба у нас свой в доску. Он старше меня на пять лет, и мы с ним начинали с одного борта.
– Ладно, – говорит он, – иди к своему флагманскому и передай ему все, что я о нем думаю.
– Эй! Покажись! – кричу я и уже иду по коридору. – Где там этот мой флагманский? Где это дитя внебрачное? Тайный плод любви несчастной, выдернутый преждевременно. Покажите мне его. Дайте я его пощупаю за теплый волосатый сосок. Где этот пудель рваный? Дайте я его сделаю шиворот-навыворот. Сейчас я возьму его за уши и поцелую взасос.
Вхожу к Славе в каюту, и Слава уже улыбается затылком.
– Это ты, сокровище, – говорит Слава.
– Это я.
Мы со Славой однокашники и друзья и на этом основании можем безнаказанно обзывать друг друга.
– Ты чего орешь, полудурок? – приветствует меня Слава.
– Нет, вы посмотрите на него, – говорю я. – Что это за безобразие? Почему вы не встречаете на пирсе свой любимый личный состав? А, жабеныш? Почему вы не празднично убраны? Почему вы вообще? Почему не спрашиваете: как вы сходили, товарищ Петровский, чуча вы растре-бученная, козел вы этакий? Почему не падаете на грудь? Не слюнявите, схватившись за отворот? Почему такая нелюбовь?
Мои монологи всегда слушаются с интересом, но только единицы могут сказать, что же они означают. К этим единицам относится и Слава. Монолог сей означает, что я пришел с моря, автономка кончилась, и мне хорошо.
– Саня, – говорит мне Слава, пребывая в великолепной флегме, – я тебя по-прежнему люблю. И каждый день я тебя люблю на пять сантиметров длиннее. А не встречал я тебя потому, что твой любимый командир в прошлом, а мой начштаба в настоящем задействовал меня сегодня не по назначению.
– Как это офицера можно задействовать не по назначению? – говорю ему я. – Офицер, куда его ни сунь, – он везде к месту. Главное, побольше барабанов. Больше барабанов – и успех обеспечен.
– Пока вы там плавали, Саня, у нас тут перетрубации произошли. У нас тут теперь новый командующий. Колючая проволока. Заборы у нас теперь новые. КПП еще одно строим. А ходим мы теперь гуськом, как в концлагере.
– Заборы, Слава, – говорю ему я, – мы можем строить даже на экспорт. Кстати, политуроды на месте? Зам бумажку просил им передать. (Политуроды – это инструкторы политотдельские: комсомолец и партиец.)
– На месте, – говорит мне Слава. – Держитесь прямо по коридору и в районе гальюна обнаружите это гнездо нашей непримиримости.
– Не закрывайте рот, – говорю я Славе, – держите его открытым. Я сейчас буду. Только проверю их разок на оловянность и буду.
Заменышей я нашел сидящими и творящими. Один лучше другого. Оба мне неизвестны. Боже, сколько у нас перемен. А жирные-то какие! Чтоб их моль сожрала! Их бы под воду на три месяца да на двухсменку, я бы из них людей сделал.
– Привет, – говорю я им, – слугам кардинала от мушкетеров короля. Наш зам вам эту бумажку передает и свой первый поцелуй.
– Слушай, – обнял я комсомольца, – с нашим комсомолом ничего не случилось, пока я плавал?
– Нет, а чего?
– Ну, заборы у вас здесь, колючая проволока, ток вроде подведут.
Чувствую, как партия напряглась затылком. Пора линять.
– Все! – говорю им. – Работайте, ребята, работайте. Комплексный план, индивидуальный подход, обмен опытами – и работа закипит. Вот увидите. Новый лозунг не слышали? «Все на борьбу за чистоту мозга!»
Я вышел и слышу, как один из этих «боевых листков» говорит другому:
– Это что за сумасшедший?
– Судя по всему, это Петровский. Они сегодня с моря пришли. Страшный обалдуй.
Конспект
Все! Попался-таки! Мой конспект попался на глаза заму. Я увлекся и не успел его спрятать. Зам вошел, взял его в руки и прочитал название – красное, красивое, в завитушках:
«„Падение Порт-Артура”, В. И. Ленин, ПСС, т… стр…»
Под ним почерком совершенно безобразным шло: «Он упал и загремел в тазу…»
Зам посмотрел на меня и опять в конспект.
«Голос: И хорошо, что упал, а то б туда служить посылали».
– Это что? – спросил зам. – Конспект?
– Конспект, – отважно ответил я. Отчаяние придало мне силы, и какое-то время мне даже было жаль зама.
Он тем временем снова углубился в изучение текста:
«Ночь плывет. Смоляная. Черная. Три барышни с фиолетовыми губами. Кокаиновое безумство. Лиловые китайцы. Погосы-кокосы. Сотня расплавленных лиц громоздится до купола. Распушенная пуповина. И зубами за нее! И зубами! Красные протуберанцы. Ложатся. Синие катаклизмы. Встают. Болван! Не надо читать. Надо чувствовать. Брюшиной. Стихи: Ландыш. Рифма – Гадыш. Неба нет. Вместо него серая портянка. И жуешь ее, и жуешь! „Кого? Портянку?” – „Это уж кто как понимает”».
– Александр Михайлович, что это?
Видите ли, весь фокус в том, что у меня два конспекта в тетрадях совершенно одинакового цвета. В одной я пишу настоящий конспект первоисточников, а в другой – свои мысли и всякую белиберду из прочитанного и храню все это вместе с секретными документами, потому что у нас же свои мысли просто так не сохранить: обязательно через плечо влезет чья-нибудь рожа. Поэтому над мыслями я писал наиболее удачные заголовки работ классиков марксизма. Писал крупно и красиво. Влезет кто-нибудь: «Что пишешь?» – и ударит ему в глаза красный заголовок, после чего он морщится и гаснет. А с замом осечка произошла: сунулся и вчитался. Просто непруха какая-то!