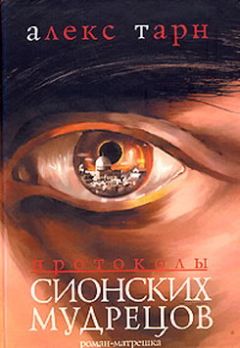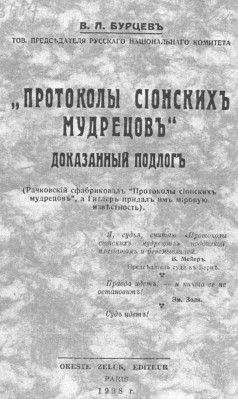Алекс Тарн - Протоколы Сионских Мудрецов
В общем, хватает забот у левого деятеля. Зато и денег тоже хватает. И то — такой труд, да чтобы неоплаченным оставался? Откуда ж деньжата? Ну, это-то не проблема. Тут вам и Европейский Союз, и евреи-толстосумы с жирными финансовыми интересами в Ливане, Египте, Сирии, и всякие другие нефтью пахнущие гуманисты… Так что желающих помочь хватает. Короче, завелись деньги у Саши Либермана, впервые в жизни, можно сказать, завелись. Разъезжал он теперь на казенной «мазде» и как-то естественно перешел с «голда» на «абсолют». Сеня, впервые увидев «мазду», насмешливо прищурился: «Вот это да… Смотри, Сашок, какая интересная закономерность. Пока ты был поганым националистом, то чуть ли не с голоду помирал. А как гуманистом-плюралистом заделался, так прямо как сыр в масле катаешься. О чем это говорит? — О том, что база у тебя теперь — все прогрессивное человечество, а не мелкая горстка еврейских скупердяев. А ведь давно замечено: чем база ширше, тем морда толще… Так что — правильной дорогой идете, товарищи!»
Насмешки насмешками, но от «абсолюта» Сеня не отказывался. Хотя и сашкины попытки обратить его в новую веру отвергал — мол, стар я, Сашуня, для этой суеты… разве что в лесбияны гожусь — по причине необъяснимой тяги к женскому полу… да и это, честно говоря, уже в прошлом. И все же Сашку не покидало ощущение, что сенино отношение к нему как-то неуловимо изменилось… какой-то оттенок странный появился… презрительный, что ли? Да нет, навряд ли; откуда?.. почему?.. быть такого не может, чтобы на аполитичного пофигиста Сеню как-то влияли его, сашкины, идейные метания. Уж кому-кому, а Сене все эти дела всегда были до самой далекой лампочки. И тем не менее, какая-то едва различимая брезгливость мерещилась Сашке в насмешливом сенином взгляде за качающейся струйкой сигаретного дыма. В общем, надо переезжать. И побыстрее.
* * *Шломо же тем временем пытался собрать воедино разлетевшиеся обломки собственного бытия. Прежняя, реальная и надежная картина жизни вдруг распалась, как разом обветшавшая панорама; казавшийся таким глубоким и многозначительно туманным рисунок заднего плана прорвался, обнаружив грубую искусственность грунтованного холста и неструганные доски каркаса; ближние фигуры выглядели топорно сработанными, неумело раскрашенными муляжами, и тусклое ничто сквозило сквозь дыры в размалеванных небесах. Он чувствовал себя единственным живым существом на смотровой площадке этого кишащего манекенами полуразвалившегося балагана. Его знобило от сквозняков, мутило от чужих запахов, и он тщетно искал выход, не видя и боясь обнаружить его.
На работу в редакции «Вестника» Шломо так и не вернулся; в то же время и дома он оставаться не мог. Незримое, но почти физически осязаемое присутствие Кати и Женьки не давало ему дышать. Каждая вещь, каждая выбоина на полу, каждое пятно на стене глядели на него женькиными глазами, обращались к нему катиным голосом. Сначала это даже радовало его, хотя и сбивало с толку в исполнении повинности повседневного существования. Потом — стало мешать; он понял, что еще немного и — рехнется окончательно, что так нельзя, что, если уж черт знает по чьей воле он остался жив, если уж был он выплюнут на берег по странной прихоти людоеда, то надо как-то соответствовать… хотя, собственно говоря, почему?.. — да потому что иначе лишалось смысла все, включая и гибель его девочек. А так… авось и выпадет ему понять, откуда ноги растут, в чем он, дальний этот смысл; ведь иначе — зачем же он тут оставлен?
Он стал уходить из дому, изнуряя себя дальними прогулками, спускаясь с гиловской горы к Пату и затем следуя дальше, в направлении тихой Рехавии и городского центра. Он шел, захватив с собою бутылку воды и пару ломтей хлеба, равно безразличный к огнедышащему зною первых весенних хамсинов и к пронизывающей свежести последних весенних ночей. Он шел, чуть подавшись вперед, глядя в землю, в асфальт, в мощеный тротуар, просто переходя от плитки к плитке, от трещины к трещине, от ямки к ямке, напряженно ища в этой монотонно меняющейся неизменности столь необходимую ему сейчас подсказку, знак, указатель. И Город с беспомощной жалостью смотрел на ползущего по нему муравья, точно зная, что он, Город, не сможет ему помочь, не сможет дать ему ничего, кроме смерти или сумасшествия.
Иерусалим, Ерушалаим, Ир Шалем — особенный город. Он не блещет архитектурными ансамблями, музеи его бедны, дома стандартны. Нет в нем романтических набережных, да, собственно, и реки-то нету. А город без реки — это уже, почитай, рангом ниже, на первый сорт не потянет. Старая часть, обнесенная опереточной стеною, скучна и грязновата. Ветхие турецкие постройки, убогие церквы и мечети, колониальные бараки времен британского мандата — воистину, жалкий, презренный сор. На всем, что создано здесь человеческими руками, лежит неистребимый отпечаток временности. В этом-то все и дело, во временности. Люди чувствуют себя здесь, как жильцы на съемной квартире. Кто же будет вкладывать собственные средства в застройку арендованного дома? Вот и кладется заплата на заплату — тут башенка, там чердак, здесь занавеска… — а ну как завтра придет Хозяин и прикажет все немедленно снять и выметаться к чертовой матери?
Все это так, только временность жильцов к самому Городу не относится. Если и впрямь мы, люди, уберемся с этих холмов вместе с нашими дурацкими стенами, крестами и полумесяцами, Иерусалим останется, не сгинет, как сгинули прочие вавилоны. Ибо он населен и без нас. Присутствие Хозяина в этом месте ощущается сильно и явственно. Невозможно спутать ни с чем другим происхождение того необычного праздника, который рождается в сердце, когда, перевалив через Бет-Хоронский перевал и поднимаясь от Гивоны в сторону могилы пророка Самуила, вдруг замечаешь далеко внизу, с правой стороны шоссе, мелькающие между придорожными кустами белые кварталы Города, где Живет Бог.
Это Город неба, прозрачного настолько, что сквозь дрожащую голубизну его можно увидеть самые дальние смыслы и сути. Это Город земли, горькой на вкус и заскорузлой наощупь, сухой и строгой, как вдова в черном платке. Он зовется Ир Шалем — Город Цельного, и из сотен имен, данных ему людьми, это — самое верное. Оттого нет лучше места на Земле для цельного сердца, для цельной души. Оттого нет страшнее, опаснее места для людей с расщепленной душою и смятенным сознанием. В мощное поле его тяготения нельзя попадать в разобранном виде…
* * *В один из апрельских вечеров Шломо обнаружил себя на пешеходной улице Бен Егуда, в праздном, прогулочном сердце города. Был тот переходной, тревожащий душу час, когда ранние сумерки шелковыми складками спускаются с медленно чернеющего свода, и электрический свет уличных фонарей выглядит особенно беспомощным и неуместным в странном колеблющемся полумраке. Но делать нечего — когда-то ведь надо их зажигать. Подождите еще с полчасика… и вот уже лживые сумерки уступают место честной уверенной ночи, и приунывшие было фонари обретают наконец то, чего им так не хватало — темноту.
Устав от дневных скитаний по городу, Шломо присел на каменную скамью и огляделся. Мерцающая мостовая из бело-розового иерусалимского камня была уставлена столиками кафе; двери ярко освещенных лавок широко распахнуты, нарядная веселая толпа лениво слонялась взад-вперед, клубясь и завихряясь вокруг лотков, артистов и музыкантов. На свободном пятачке крутили сальто уличные акробаты; блестящие ромбики на их трико мелькали, как разноцветные стекляшки в детском калейдоскопе. Жонглеры перебрасывались пылающими булавами; мрачный шпагоглотатель сосредоточенно вдвигал длинное сверкающее лезвие в страдальчески раззявленный рот; застывшие на импровизированных постаментах статуи оживали, склоняясь в галантном поклоне в ответ на серебрянную монетку, брошенную к их мраморным туфлям.
Отовсюду звучала музыка; квакающий свинг приткнувшегося неподалеку саксофониста нервно напрыгивал на безразличную «умца-умцу» транса, тумкающую из жонглерских магнитофонов; даа-а-ро-гой длинною, да ночью лунною летел аккордеон толстого массовика-затейника на углу, а в десяти метрах от него тонко плакала скрипка, прижавшись к плечу очкастой девицы, плакала, умоляя купить, наконец, эту папиросу, вот уже век как безуспешно продаваемую на всех перекрестках мира…
Но похоже, что и здесь, в разноголосой праздничной суете, никому дела не было до старой идишской папиросы… переходи на травку, скрипачка! А еще лучше — на жратву какую или питье; только глянь — вся толпа вокруг жует… или пьет… или курит. Как будто только попробовав на язык, откусив, проглотив, затянувшись, можно ощутить вкус этой странной, ускользающей, мимо бегущей жизни, захватить ее внутрь, сохранить, запастись впрок.
Солидняки ковыряли лобстеров в дорогих ресторанах; народ попроще жевал стейки, запивая их красненьким; за столиками уличных кафе дули пиво и уминали салаты; девушки сосредоточенно сгребали ложкой сливочную шапку с огромных, похожих на бригантины, капучинных вазонов; их суровые пятнадцатилетние капитаны многозначительно курили, посасывая горлышко «хейникена» и глядя вдаль нахмуренным взором. Любители фалафеля нагружали килограммы съестного в разинутые зевы пит, чтобы затем вцепиться в это сочащееся всеми земными соками сооружение и насыщаться, урча и разбрызгивая вокруг себя струи соусов, стручки перца, огрызки соленых огурцов и ошметки красной капусты. Брезгливые интеллектуалы, отодвинувшись подальше от фалафельщиков, вели умную беседу за чашечкой «эспрессо», зажав фарфоровыми зубами эбонитовые мундштуки своих вересковых трубок.