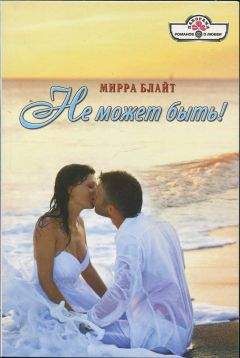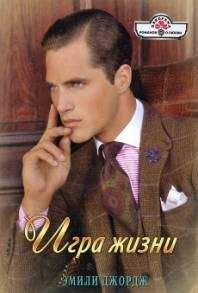Геннадий Емельянов - Арабская стенка
Бублик поднялся из-за стола отдохнуть, бросил карандаш с небрежностью. Карандаш покатился и упал на пол. Шурочка, подобрав ноги, сидела на тахте и перелистывала «Огонек». Дело было вечером, и халат Шурочки играл, как ночное небо. Бублик собрался поначалу растревожить жену ехидной репликой, собрался сделать заявление в том духе, что дома опять жрать нечего и что «Огонек» может погодить, но после недолгих колебаний от дерзости такой воздержался, памятуя о последствиях: в отместку обязательно будет спрошено, почему до сих пор в квартире нет нового гарнитура? Женщина Шурочка сообразительная и враз, если возьмется, докопается до правды. Аким вздохнул и опять сел рисовать кружочки да стрелки. Пора подвести некоторый итог. Три варианта выковала творческая фантазия нашего героя: дед, персональный пенсионер союзного значения, бабушка, пенсионерка республиканского значения и ветеран труда, пенсионер областного значения. Но ведь поинтересуются дотошные общественники во главе с Лютиковым фамилиями столь знаменитых личностей, а что им ответить, чем крыть козырную карту? А нечем крыть! Как же изловчиться? «Явлюсь я, — думал Бублик — и скажу: представляю трестовский профсоюз и прошу убедительно помочь раздобыть арабскую мебель для детской больницы. Дети в той самой больнице, допустим, страдают чесоткой? Чесотка не тянет, чесотка общественников не разбередит… Дети, допустим, глухонемые от рождения? Тогда зачем им музыка? Не тянут, значит, и глухонемые. А если чахоточные? Это нормально, пожалуй. Итак, лежат туберкулезные дети, и им, конечно, всякие тонкости не чужды, они — нежные. Вот профсоюзы и обзаботились тем, как проявить к обиженным судьбой малюткам отеческое участие. Деньжонки кой-какие трест имеет и почему бы не порадовать соплячков таким способом, почему бы не купить им заморский гарнитур с музыкой? Здоровье набрать можно ведь не только с помощью хорошей еды и внимательного ухода». Аким Никифорович устало сложил руки на коленях и покачал головой, дивясь собственной находчивости, и едва не заплакал даже, жалеючи детей, которым беда застила ясное солнце.
— Бедные ребятки! — сказал вслух Бублик и опять с небрежностью бросил карандаш. Жена Шурочка, сощурившись, рассматривала в «Журнале мод» длинноногих французских красавиц в пляжных костюмах. Красавицы демонстрировали себя очень смело, и позади них было очень синее море.
Дверь была обита черным дерматином и гляделась солидно, За такими дверями живут размеренно, негромко, копят средства на «Волгу» и пишут кандидатскую диссертацию.
Аким Никифорович Бублик, ощущая перебои сердца, размеренно подышал, округлив губы, и осмотрел ботинки — не грязны ли? Ботинки были чистые. Грудь приятно холодила бутылка коньяку, купленная за двенадцать рублей, опять перехваченных до получки. Посреди двери белела кнопка звонка, напоминавшая выпученный глаз. Бублик хотел уже нажимать кнопку, но притормозил, растревоженный каким-то воспоминанием, сперва смутным, потом уж и до очевидности ясным. Аким Никифорович представил вдруг, будто он стоит перед учительской лет этак двадцать пять назад, перед дверью, обитой вот так же дерматином, стоит поникший, ковыряет пальцем в дырочке за косяком (на пол сыплется серая цементная мучица), сопит и бычится, копя в себе зло на учителя математики Байкалова, который опять велел явиться на круг и ответить педагогическому коллективу, что он, собственно, собой представляет и когда, собственно, начнет учиться?
— В школу ходят не только штаны протирать? — говаривал учитель Байкалов и вздыхал, поворачивая худое лицо в сторону окна. — Ты феноменально ленив, Бублик. И — нелюбопытен. — Очки Байкалова отражали тополя на улице, людей, идущих по тротуару, солнечные блики. На дворе была весна, земля пахла тестом, на кустарнике прорезался лист. Бублику становится тягостно, его осеняет соображение, что неплохо бы повеситься. Учитель Байкалов тоже непрочь повеситься, несмотря на дивную весну. Обоим скучно, поскольку оба знают: им не дано ничего изменить.
— В школу ходят не только штаны протирать, — учитель Байкалов морщится от того, что повторяется, но ничего другого в голову не темяшится: на этого румяного тунеядца были потрачены все путные слова. — И любопытства у тебя никакого. Один аппетит у тебя и остался. Одного аппетита мало, видишь ли…
— Я исправлюсь, — вставляет по сценарию Аким Бублик, потому как без этого заклинания учитель Байкалов не отпустит. А на дворе — теплынь, коты на балконах греются. Вешаться уже как-то не хочется.
— Что ж, ступай…
Вслед учительница ботаники по прозвищу Фасоль на всю учительскую венчает разговор:
— Напрасно вы с ним, Иван Иванович, канителитесь — безнадежно. Зажирел… Мать у него, правда, тоже толстая, но хищница, она этого недоросля вытянет, помяните меня, она ему еще высшее образование даст.
— Вы слишком, однако!
— При наших-то порядках и козел способен диплом получить.
— Это вы слишком, однако!
…Мы не властны над памятью.
Возьмем того же Бублика. Он бы и не прочь начисто забыть школу, детство, студенчество, но прошлое напоминало о себе иногда вроде бы и совсем без повода. Подумалось: «К чему это Байкалов явился? Необъяснимо, можно сказать, явился, однако ведь и не к добру». — Аким Никифорович еще раз осмотрел себя, постарался нагнать на лицо выражение усталой значительности и нажал кнопку звонка.
В прихожей, квадратной, светлой, с большим зеркалом по правую руку, встретила гостя пожилая женщина. Она, сложив руки под фартуком, смотрела весело и добро. Голова женщины, пенисто седая, пышная, была похожа на одуванчик. Бублик шаркнул ногами о мокрую тряпку у порога и кивнул. На душе его враз полегчало: «Такая хорошая тетка!» — подумал он и еще раз кивнул — для пущей важности и подстраховки.
— Мне б Григория Лукьяновича на минутку?
— Он дома, — хозяйка жестом, полным доброжелательности, с улыбкой показала на коридор, ведущий вглубь квартиры. — Там они, в шахматы играют. Приболел что-то мой Лукьянович, знаете ли.
— Прискорбно! — сказал Бублик, разуваясь. Лицо его набрякло и покраснело. — И сильно приболел?
— Простуда.
— Счас у всех простуда — весна.
— Весна, да.
— У меня вот мать все жалуется — кости, говорит, мозжат. Счас у всех простуда.
— Сюда, пожалуйста.
Бублик разулся, присев на корточки, чтобы не выпала из кармана бутылка, поправил волосы перед зеркалом, пошел в носках и на цыпочках за хозяйкой.
Григорий Лукьянович Лютиков сидел в кресле, колени его прикрывал серый плед. Был Лютиков могуч, внушителен и аристократичен, как, например, Федор Шаляпин в старости. От дяди Гриши веяло спокойной силой и достоинством, волос на его большой голове не посекся, лежал он в стихийном, как говорят, беспорядке, черный впроседь, и не портил общего весьма благородного облика. Всякий, кто встречал старика в кабинетной тиши или на шумном перекрестке, обязательно склонялся к твердому умозаключению, что этот величественный человек знавал славу и лучшие дни. Особой славы, как известно, Григорий Лукьянович не знавал, но не в том суть.
Напротив дяди Гриши, по другую сторону квадратного столика, сидел сухой человек с лицом острым и сердитым; На сердитом том лице господствовал нос — тоже острый и тоже сердитый. Нос нависал монументально и давал еще лицу выражение брезгливости. Создавалось такое впечатление, что приятель дяди Гриши только что нюхал тухлое яйцо. Это был дядя Ваня по прозвищу И Другие. Старики играли в шахматы.
Дядя Гриша кивнул Бублику на стул и сказал, обращаясь к дяде Ване:
— А мы вот так походим!
— А мы вот так!
— А мы вот так!
Потом дядя Гриша засмеялся тихим смехом и задрал голову к потолку:
— Опять, Иван, мат тебе! Ты сегодня что-то совсем бестолковый?
Дядя Ваня как-то неуверенно вынул из кармана платок, обмотал его воронкой вокруг носа, подышал громко, наморщив лоб, хотел, видимо, чихнуть, но не чихнул, спрятал платок назад и вздохнул.
— Не заболел разом? От меня ведь можно заразиться, Ваня, говорил тебе — садись подальше, так не послушал.
— А я и не больной вовсе.
— Чего же проигрываешь подряд?
— Голова не варит сегодня что-то — наверно, к перемене погоды.
— Может, оно и так, — миролюбиво согласился дядя Гриша и тут вспомнил про Бублика, поворотился к нему, подправил плед на коленях. Под пледом были тапочки из велюра с бантом посередке. Симпатичные тапочки, пошитые для уюта и благополучной домашности. Бублик туго покашлял и привстал:
— У меня к вам дельце, Григорий Лукьянович…
— Без дельца к нам не ходят, — ответил дядя Ваня и приоткрыл рот, ощупывая двумя пальцами, с нежностью, кончик носа.
— Оно понятно, — сказал Аким Никифорович: — Вы — люди заметные.
— Ты короче! — отрезал дядя Ваня и чихнул вяло, почти неслышно, будто кот.