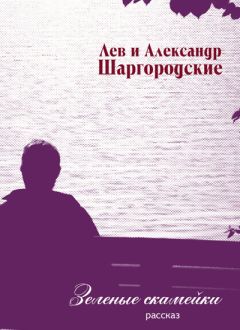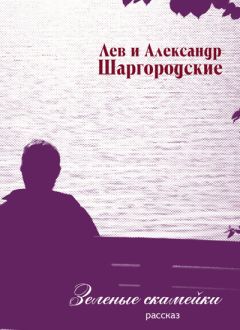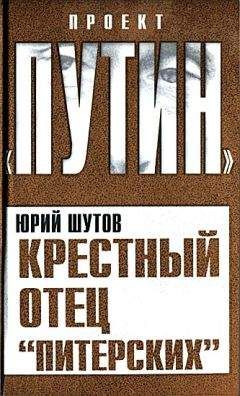Александр и Лев Шаргородские - Бал шутов. Роман
Там он узнал, что его самолет улетел три дня назад, вместе с членом творческой группы Семеном Тимофеевичем…
Леви сел посреди летного поля и раскрыл чемодан. Со дна на него смотрел Галеви.
— Иегуда, скажи мне, что это — случайность или знамение?
— Сердце мое на Востоке, — произнес Иегуда со дна.
— Понял, — произнес Леви. — Значит, знамение. И я остаюсь, да? Что ж ты молчишь, учитель? Я остаюсь или улетаю?
— Ты остаешься, — ответил учитель…
Парижский театр Гуревича разочаровал. Казалось — всюду любители, причем ставящие свои первые спектакли. Многие пьесы были безобразны. Ему захотелось цензуры.
Он видел «Трех сестер». Режиссера надо было убить — все сестры ходили в мужицких сапогах, пили водку, а одна почему‑то все время напевала «Подмосковные вечера».
Он смотрел «Дядю Ваню» — режиссера надо было убить или переименовать пьесу в «Дядю Жан» — провинциальный русский герой прошлого века ходил в джинсах, курил «Мальборо» и носил под мышкой «Нувель Обсерватор».
Чехов в далекой России вертелся в гробу.
Оставшийся в туманном Ленинграде Олег Сергеевич казался Станиславским.
«На них бы приемочную комиссию», — мечтал Гуревич.
Но работать хотелось, руки чесались что‑нибудь поставить, показать этому непросвещенному обществу, на что он способен.
Он разослал сто «куррикулум вите», указав все свои заслуги и прочее. Откликнулся один режиссер, но великий. Он пригласил Гарика к себе, и Гуревич потащился в гору — великий жил на Монмартре, на самом верху. У великого все было белым — костюм, комнаты, слуга.
— Что будем пить? — спросил великий.
Перед Гариком высился белый стол, в углублении которого отдыхало по меньшей мере двести бутылок.
— «Цинандали», — попросил Гарик, чем поставил великого в неловкое положение.
В его коллекции «Цинандали» не было.
— Может, отведаете «Бордо», урожая 28–го? — спросил он.
— Давайте «Бордо», — согласился Гарик.
Они выпили, и великий рассказал Гарику всю свою жизнь, а потом сунул руку, и Гарик подумал, что он сейчас исчезнет в проруби, как светлой памяти Олег Сергеевич.
— Простите, — начал Гарик, — а работа?
— Какая? — удивился тот, — у нас сейчас 60 тысяч безработных актеров, мой дорогой.
— Я понимаю, но я хочу работать!
— Вы думаете, они не хотят?
— Но, простите, у меня талант, у меня слава, у меня…
— Проводите товарища, — сказал белый — великий белому слуге.
Гарик хотел задушить великого, но оказался уже на улице — белый слуга был чертовски силен.
И они втроем — Гуревич, его слава и его талант пошли напротив, в бистро, жевать поджаренный «крок мсье»…
Шустер был немцем, которого все принимали за еврея.
Если хотите, это была история с комиком Леви, только наоборот. Шустера обзывали жидовской мордой, убийцей Христа и жалели, что его не придушил Гитлер.
Вначале он объяснял людям, что он германец, потомок Гутенберга, который изобрел машину для печатания и в восемнадцатом веке перебрался в Россию.
Его не слушали, ему отвечали, что он типичный Хаим, и что, помимо всего, печатную машину изобрел не какой‑то там Гутенберг, — наверное, тоже еврей, — а чистый русский, товарищ Федоров,
Со временем Шустер перестал объяснять свою национальность.
«Еврей — так еврей, — думал он, — что поделать?»
Его бесконечно посылали в Израиль, называли прожженным сионистом, израильской военщиной.
Он молчал. И, наконец, решил уехать к себе на Родину. В Федеративную Республику Германию.
Предки его были из Кельна, кто‑то из них даже возводил собор, кто‑то участвовал в создании одеколона.
Ему вдруг ужасно захотелось на берега Рейна, к кельнской водичке, и он подал.
Это случилось после того, как он из Шустера внезапно превратился в Рабиновича.
Это длинная история.
И не смешная.
Зачем рассказывать длинные и несмешные истории?
Хотя… Если укоротить.
Так случилось, что Шустер когда‑то отдал свою премию на постройку детского лагеря. Долго что‑то там строили в лесу и, наконец, его пригласили на открытие. Он поехал с женой, на электричке, потому что у машины, которая всю зиму простояла под снегом, когда они его счистили — не оказалось двух колес. А при ближайшем рассмотрении — и мотора.
Вот они и поехали на электричке.
Неизвестно, случайно или нет, но детский лагерь находился как раз на станции Репино, бывшей Куоккола, где когда‑то вышел из моря гений Гуревич.
Жена его осталась в лесу, она не хотела идти, и Эрик пошел к детям сам. У ворот его встретила директриса в бежевом кримпленовом платье.
— Товарищ Рабинович! — раскинув руки, пошла она навстречу.
Шустер остолбенел.
— Моя фамилия Шустер, — представился он.
— Очень приятно, товарищ Рабинович, — ответила она, — а моя — Морозова. Проходите, раздевайтесь.
— Товарищ Морозова, меня зовут Шустер.
— А меня Галина Николаевна. Дайте мне ваше пальто, товарищ Рабинович.
Шустера закачало. Он раздел пальто, отдал его Галине Николаевне и начал думать, как бы ей втемяшить свою настоящую фамилию.
— Товарищ Морозова, — начал он, — тут какое‑то недоразумение, но моя настоящая фамилия…
Закончить она не дала.
— Это не имеет никакого значения, товарищ Рабинович, потому что мы ее все равно сейчас поменяем.
— Это в каком смысле?
— Да вы не волнуйтесь. Сейсас мы начинаем, и я бы хотела вас представить детям под псевдонимом.
— А — а, — засмеялся он, — так Рабинович — это мой псевдоним?
Теперь заржала она.
— Рабинович — псевдоним?! Вы издеваетесь? Я предлагаю вам настоящий псевдоним, продуманный. Кириллов! Вам нравится? Или Петухов.
— Не понимаю, — ответил Шустер, — а чем плохо Рабинович?
Он начинал путаться, — видимо, товарищ Морозова его запутала.
— Что вы, — всплеснула руками директиса, — Рабинович — замечательно! Но дети могут неправильно понять…
— В каком смысле?
— В религиозом.
— П — простите?..
— Рабинович — это что, это раввин, да?..
— Вроде, — растерялся Эрик.
— А раввин — это поп, так? Поп или нет, я вас спрашиваю?
— В каком‑то роде…
— Правильно! А у нас церковь отделена от государства. Тем более — от детей! Поэтому я и прошу вас удовлетворить мою маленькую просьбу.
«Рабинович» задумался.
— А радио? — вдруг спросил он.
— Что радио?
— Кто радио изобрел?
Антонина Тарасовна знала. Но забыла. Поэтому она сказала:
— Наш, русский изобрел! А в чем дело?
— Совершенно верно, — произнес новоиспеченный Рабинович, — Попов изобрел. Дети Попова знают?
— Еще как!
— А поп — это раввин, так?
Морозова растерялась.
— Вроде, — сказала она.
— Так в чем дело? — спросил Эрик. — К тому же моя фамилия Шустер.
Она долго и тупо смотрела перед собой.
— В общем, если вы хотите называться Поповым, — предложила она, — я представлю вас детям Поповым. Ладно?..
— Нет, — сказал Шустер, — не представляйте меня детям, товарищ Геббельс.
— Что, — не поняла она. — Моя фамилия Морозова.
— Всего хорошего, мадам Риббентроп, — попрощался Эрик. И ушел!
Наверное, это было последней каплей.
И он подал.
И вот третий год сидел в дерьме.
Или в отказе.
Что, впрочем, одно и то же.
Ему отказывали в визе на его историческую родину, в Германию, под предлогом, что он знает какую‑то тайну.
Но какую — не знал никто, даже сам Шустер.
Всю жизнь он был связан с физикой, но не открыл ничего.
Возможно, это и была тайна.
В дерьме сидел он вместе с женой, сидел и думал — чем еще можно заниматься в дерьме, и на четвертый год сидки что‑то открыл.
Это было неожиданно, и Эрик боялся признаться в этом даже себе.
Узнай об этом компетентные органы — его б уже не выпустили ни за что и никогда.
А так — оставалась надежда, его вечная спутница, которая вам машет крылом из высокой синевы и вам становится легче дышать.
Если можно легко дышать в семьдесят восемь.
Да, Шустеру исполнилось именно семьдесят восемь, и жена его пошла за тортом — они справляли вдвоем. А Шустер смотрел в окно на тоскливый пейзаж и ждал ее.
В дверь позвонили. Он открыл.
На пороге стоял Боря Сокол.
Когда Сокол увидел Шустера, он понял, что об угоне самолета не может быть и речи.
Дай Бог, чтоб Шустер поднялся по трапу.
Весь вечер Сокол рассказывал Эрику о тайном обществе «Набат», о его задачах и планах.
Старый физик ничего не понимал.
— Простите, — говорил он, — какая передача власти? Кому?
— Элите, — объяснял Борис, — вам.
— Зачем мне власть? На кой…
— Не хотите — не надо. Возьмем — потом отдадим. Членские взносы небольшие… Устав вам нравится?