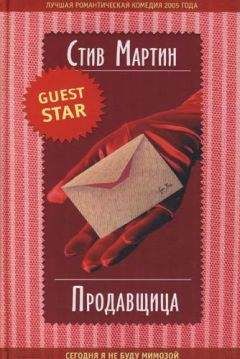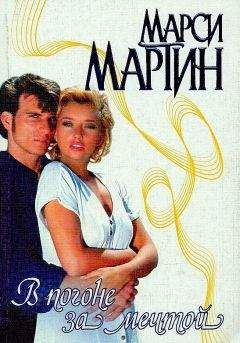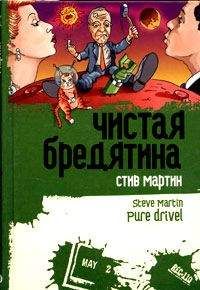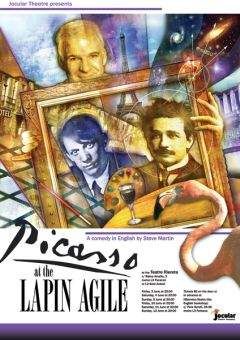Стив Мартин - «Радость моего общества»
Я умудрился выжать слезинку на слове "хватать". Прочтя несколько строк из "его" сочинения, втайне я сознавал, что если бы победитель — я — уже не был определен, мои скорбные изъявления по ушедшему Ленни могли бы смягчить судей, и он тут же получил бы приз. Выступление я закончил с блеском, украв у Сью Дауд трюк со склоненной головой, что было принято на "ура". Ленни Бёрнс удостоился заслуженных аплодисментов. И не только потому, что умер ужасной смертью (из-за неудачной операции на колене, как я пояснил слушателям).
Затем я нашарил свое сочинение, которое, как я обнаружил, не просто торчало из кармана, а готово было вывалиться на пол. Я застегнул пиджак и заметил, что моя ширинка стала складчатой, как аккордеон, плюс штаны сидят слишком низко. Я поддернул их, взявшись за пояс, и растянул книзу, чтобы брючины расправились. Несколько складок таким образом было ликвидировано. И я почувствовал, что готов читать. Свою речь я начал с "эхем" — нарочито прочистив горло, я, как мне думалось, выказал власть над аудиторией. Первые несколько фраз я произнес уверенно, хотя голос удивил меня своим сопрановатым тембром. Затем, разглядев в зале восхищенные лица, я почувствовал, что распаляюсь. Как-никак я был лидером. Всё больше души вкладывал я в каждое слово, и это было ошибкой, потому что тут я начал понимать, что в моей речи нет никакого смысла. "Я средний, потому что голос индивидуальности струится в моей крови"? Я средний, потому что я уникален? Эдак можно назвать средним кого ни попадя. Мои хитроумные фразочки, которые должны были звучать неотразимо, по сути оказались пустыми. Всю жизнь мой внутренний семантик старался вынюхивать эти перекрученные конструкции и очищать от них мой мозг, и вот тебе — я стою посреди сцены, и они свисают у меня изо рта как недожеванная лапша. Путаница слов и значений вихрем завертелась у меня в голове. Поэтому я нагнулся и потянул за штанины. В опрокинутом виде мне думалось яснее. Я вспомнил, что речь моя замышлялась не как трактат, но как стихотворение. Больше Романтизма. И, будучи Романтиком, я обладал куда большей лингвистической свободой, нежели математик у классной доски. По-прежнему вверх тормашками я напомнил себе, что нахожусь перед слушателями, которые желают, чтобы их пленяли, а не поучали. Я решил пойти вглубь, к самому источнику своей харизмы и, окунув туда пальцы, благославляюще окропить ею аудиторию.
Я расщелкнулся. Мой голос стал глубже, мошонка расслабилась. Я говорил голосом римского сенатора.
— Я средний, — говорил я, — ибо голос индивидуальности струится в моей крови, как древняя река... как тихая сила яблочного пирога, выставленного на окно, чтобы остудиться.
Я сложил свои бумаги и сел. Последовали теплые аплодисменты, которые было сложно измерить, потому что никогда в жизни я не удостаивался аплодисментов. Гюнтер Фриск, аплодируя быстрыми шлепками, потянулся к микрофону:
— Будем надеяться, что он имеет в виду теппертоновский яблочный пирог!
После этой вставки аплодисменты продолжались, и мне вновь пришлось подняться. Гюнтер поманил меня рукой и эффектно вручил чек, потом, поманив остальных конкурсантов, вручил им чеки поменьше. Свет в зале зажегся, и несколько человек подошли к сцене взять автографы, что меня ошарашило. Четыре секунды я был рок-звездой, после чего меня спокойно проводили на улицу к гольф-кару, который раздобыл Брайен, и отвезли к машине.
По дороге домой Брайен отпустил мне несколько комплиментов, которые я не учел и отверг. Это его раззадорило, и он снова ударился в комплименты, и когда они стали достаточно восторженными, я их принял. Затем он перешел на спортивные темы — на "Лэйкеров", на "Рэйсеров", на "Ангелов" — команды мне настолько неизвестные, что я никак не мог увязать матчи с названиями. Но Брайен оказал мне такую искреннюю поддержку, что я чувствовал себя обязанным откликаться энергичным "да" и кивками, хоть и промахнулся пару раз, судя по его озадаченным взглядам.
Брайен отвез меня к банку, и мы едва успели до закрытия. Я положил чек на депозит, оставив себе сорок долларов наличными и предложив пятерку Брайену за бензин. Я десять лет не брался за руль и не представлял, в какую стратосферу взлетели цены на топливо. Теперь-то знаю — то был мизер по сравнению с его затратами, и мне хочется когда-нибудь с ним рассчитаться.
* * *
О бабушкином самоубийстве я узнал до того, как оно произошло. То ли она раздумывала, то ли не могла собрать необходимое: дата ее смерти приходится на несколько часов позже той минуты, когда я прочитал ее письмо. Оно пролежало у меня на столе несколько часов, прежде чем я приступил к чтению, намазав бутерброд джемом и налив стакан клюквенного сока. "Ладушка моя Дэниэл", — так оно начиналось, и я ничего не заподозрил. Почерк у нее всегда был крупный и веселый, с преувеличенными завитушками и большими засечками. Только в последние несколько лет я стал замечать в нем нестойкость. "Не буду расстраивать тебя разговорами о своем здоровье, скажу только, что недолго мне остается. Я не могу позволить, чтобы мое тело меня так подводило — надо с этим как-то бороться. Горько на сердце от того, что я больше не увижу тебя, но на этом листке, в этих буквах, в том, как перо водит по бумаге, — вся моя к тебе любовь..." Дальше, в следующем абзаце: "Я не могу дышать, Дэниэл, хватаю ртом воздух, легкие переполняются, и я тону". В следующих нескольких строках она говорила, что ей пора освободиться самой и освободить тех, кто о ней заботится, от их обузы. У бабушки были две мексиканские сеньоры, которые за ней ухаживали, и одна из них, Эстрелла, так ее любила, что называла "мама". И последняя строка: "Мы в итоге становимся мудрыми, да только слишком поздно". Бабушка скончалась в 88 лет по собственной воле, от таблеток, водки и пластикового пакета.
Новость о ее смерти оставила меня до огорчения безучастным. По крайней мере, на какое-то время. Я подумал, а не сумасшедший ли я в самом деле, раз не чувствую, что меня поглотила утрата, и всё валится из рук. Но скорбь оказалась отсроченной и скачкообразной. Она не пришла в положеный час, но являлась отдельными порциями в разные дни, растянувшись на месяцы. Однажды, когда я подкидывал Тедди в воздух, порция материализовалась в пространстве между нами и исчезла, едва он приземлился мне на руки. Однажды я поставил ладонь между глазами и солнцем и почувствовал, что это как-то связано с бабушкой — ведь она стояла между мной и тем, что могло меня сжечь. Нельзя сказать, что я по ней скучал; она была очень далеко от меня, когда это случилось, и наше общение было скудным. Она жила во мне мертвая ли, живая ли. Даже теперь не получить от нее письма — все равно что получить: когда я смутно чувствую, что пора бы ему уже прийти, меня охватывает знакомое блаженство, как тогда, когда я держал его физически.
На следующий день после письма было Пасхальное воскресенье. Я вспомнил, как в отрочестве меня прихорашивали, причесывали и заключали в царапучий, как наждак, шерстяной костюм. После чего волокли в церковь. Где приходилось несколько часов сидеть на голой кленовой скамье в удушающем техасском зное. Этот опыт иссушил во мне концепцию милосердия Иисуса. Я, однако, с гордостью щеголял эмалевым значком, символизирующим, что я знаю наизусть названия всех книг Библии.
То, что смерть бабушки пришлась на этот ностальгический день, было просто неприятным совпадением, и в ту Пасху я лежал на кровати, зажатый в тиски воспоминаний. Уже перевалило за десять и, хотя мысли мои о прошлом были вязкими и неотступными, темнота в комнате обострила мой слух, позволив мне хоть одним из чувств держаться за настоящее. В момент глубочайшей сосредоточенности на картофельном салате тридцатилетней давности я услышал хлопок автомобильной дверцы, вслед за ним — торопливые шаги, затем — тихий, однако настойчивый стук в мою дверь. Я натянул штаны и футболку и открыл, не спрашивая кто там. Передо мной стояла измученная Кларисса, которую, как мишка-коала, облапил Тедди. Я не видел их обоих всю пасхальную неделю.
— Не спишь? — спросила Кларисса.
— Не сплю, — ответил, а Тедди вытянул ручки и перебрался ко мне. Кларисса вошла, поглядывая на улицу.
— Этот вернулся? — сказал я.
— Он пробыл здесь всю неделю, и всё было, по крайней мере, терпимо. Но сегодня начал возбуждаться. У него как будто таймер внутри. Стал мне названивать каждые пять минут, я из-за этого расстраивалась. Вдруг бросил звонить, но я уже знала, что будет дальше. Услышала, как под окнами скрипят тормоза, и поняла, что это он. Схватила Тедди, а он стукнулся головой, когда я его в машину сажала. — Голос у нее дрожал, и она поглаживала Тедди по голове. — Можно, я просто посижу здесь или останусь на минуточку или, может быть, на одну ночь? Пока не придумаю, что делать? — Но она знала, что ей не нужно спрашивать — нужно просто остаться. Тедди ухватился за два моих пальца, и я водил ими из стороны в сторону. — У тебя что-нибудь есть? — спросила она. — Детские салфетки или пеленки или что-нибудь?