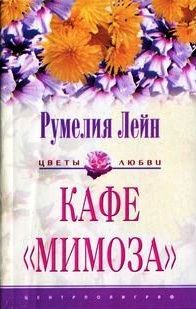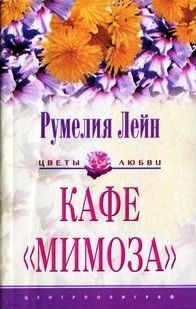Виктор Шендерович - Кинотеатр повторного фильма
Выйдя из зала, я на поролоновых ногах бреду опять в туалет – нельзя же выходить на улицу с такой физиономией! Приведя себя в чувство, уставляюсь на часы: почти шесть. Был бы пообедавши, мотанул бы сейчас в библиотеку, а так – конечно, домой. Голод уже прошел, оставив после себя резь в животе и слабость.
Размазанный по поручню, два века ползу в родные пенаты. После разгрузки угля зимой езда в нашем автобусе – самая тяжелая физическая работа из всех, которые мне приходилось делать.
Выпустят меня из этой братской могилы – или как?
Вот моя деревня, вот мой дом родной, пятиэтажный, без лифта и перспектив. Говорят, года через два прокопают сюда метро – и наши акции в Банном переулке сразу поднимутся на несколько пунктов.
Чудище выбегает из комнаты с зажатой в кулаке обезьянкой. Лапа у обезьянки висит на веревочке, но сегодня нашей девочке повезло, воспитательного процесса не будет – все мои локаторы и антенны направлены на кухню, чтобы по кастрюльному звону и напору воды определить Иркино настроение. Три года семейной жизни утончают человеческую наблюдательность до недоступной холостякам остроты.
– Привет, – говорю я входя, голосом нейтральным, равно готовым и к труду, и к обороне.
– Привет, – отвечает Ирка таким же неопределенным тоном.
– Купил лампочку, – сообщаю я. В зависимости от желания это можно понять и как «исправляюсь», и как «подавись ты своей лампочкой!».
Тонкая французская игра.
– Хорошо, – говорит Ирка. То ли «спасибо, молодец», то ли «плевать я хотела, чего ты там купил!» – Есть будешь?
Слава богу. Кажется, война закончена.
Окончательное примирение происходит за ужином. Ирка говорит, что она плохая жена и совсем обо мне не заботится – как я только терплю ее с ее характером; я говорю, что совсем напротив, она – лучшая из моих жен, завтра же велю казнить половину гарема и буду любить только ее, и остаток жизни посвящу борьбе с удлинителем.
Даже Чудище с ее нагловатыми претензиями не мешает нашему воркованию.
Поев, я на радостях иду в ванную и, засучив рукава, начинаю сверлить дырки в стене: то-то будет женушке праздник, когда корыто перестанет падать ей на голову, а повиснет на крючках, как у людей!
Праздника не получается. Вторая дырка оказывается в жутко неудобном месте, упираться в дрель приходится левой рукой, а под штукатуркой обнаруживается какой-то сверхпрочный материал. Начинаю орудовать пробойником – на грохот прибегает Ирка, а Чудище прячется под стол и правильно делает: пробойник вырывается из плоскогубцев и, просвистев мимо меня, чуть не втыкается в стенку напротив. Нервы у меня сдают, и я ору дурным голосом, чтобы у меня не стояли над душой и уходили подобру-поздорову, пока я не поубивал всех пробойником к чертовой матери.
Свершив наконец хозяйственный подвиг, я швыряю инструменты в ящик; знаю, что потом опять буду полдня искать какой-нибудь шуруп, но аккуратничать сейчас выше моих сил.
На кухне – классическая картина: изведение дефицитного продукта и читка вслух. Под шумок дрожащими от сверления руками беру тетрадку и переселяюсь в комнату. Надо обязательно осилить сегодня эту сучью «поступь» – завтра времени не будет. Ах ты… Забыл! Я хватаю телефонную трубку, и руки у меня дрожат – уже не от сверления: неужели пропустил?… Не прощу себе, не прощу!
– А, привет, – отрывисто говорит Лев Яковлевич.
– Простите, это Скворешников… Пашу – привезли?
– Да. Сегодня в три часа. Похороны – завтра.
Я тайно выдыхаю – почти с облегчением.
– Лев Яковлевич, куда мне подъехать?…
– Куда? Зачем?
– Я думал… если нужна моя помощь…
– Ах да.
– Куда мне подъехать?
– Давай к девяти, к военкомату.
– Хорошо. До завтра.
Значит, завтра. А как же Пепельников? Надо будет дозвониться до него с самого утра и перенести встречу. Скажу, что все готово, но не могу встретиться. Перенесу на воскресенье. А вдруг попросит продиктовать по телефону? Скажу, что звоню не из дому, нет рукописи. Ну, Штирлиц, погоди!
Ирка с Чудищем переходят к водным процедурам, а я беру творческий отпуск – все на борьбу с припевом! Там еще, кажется, и размер другой, где-то у меня была записана «рыба»… Я со всех сторон обнюхиваю тетрадь, черта с два тут чего-нибудь найдешь, – а, вот! «Буря мглою небо кроет». Хорошенькая «рыба»…
Молодец, Димочка, вспомнил про Косицкую. Никого нет дома. Ладно, позвоним попозже, а сейчас – вперед! «Буря мглою небо кроет…»
И вот я сижу в кресле среди мусора и игрушек, откинув голову и закрыв глаза над открытой тетрадкой, над четырьмя мертворожденными четверостишиями; сижу, пытаясь выдавить из темной своей головушки хоть строчку, но строчки нет, и полстрочки нет, а есть заунывное гудение вьюги, ее однообразные модуляции, вырастающие из простых слов, написанных бог весть когда и совсем не мною: буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя… вихри снежные крутя… у-у-ш-щ-щ…
– Димка! ну ты даешь!
Надо же, закемарил. Ирка разгребает завалы на столе, собирает ужин, смеется:
– Бедный мой старичок…
– Чудище спит? – сурово спрашиваю я, пытаясь скрыть смущение.
– Дрыхнет как сурок.
Мы ужинаем, поглядывая в телевизор и обсуждая, с какой стороны будем выбираться из-под кучи дел, под которой погребена наша жизнь, но ни я, ни Ирка уже не верим, что спасение возможно. Вздохнув, моя самоотверженная половинка садится шить Чудищу сарафанчик, а я иду воевать с морозильной камерой.
Добыть оттуда мясо надо сегодня, иначе Чудищу завтра не будет котлеток, а Чудище обожает котлетки! Холодильничек у нас дореформенный, к морозилке без ледоруба не подберешься. Вместо творческих мук я пилю, режу, чертыхаюсь – и через каждые две минуты, вытирая руки обо что попало, бегаю к телефону: вдруг как прорвало всех!
Сначала приятель детства, которого я сто лет не видел и горя не знал, выясняет, не занимаюсь ли я репетиторством, а выяснив, спрашивает, как вообще жизнь; потом студентка с курса, где весной по недосмотру учебной части я принимал зачет, долго рассказывает мне о трудностях своей личной жизни, в связи с чем я почему-то должен расписаться у нее в зачетке; потом меня призывают на службу человечеству из учебной части: в следующую пятницу – юбилей всеми любимого проректора по науке; Димочка, вы так хорошо пишете, у вас легкая рука, сочините эдакое с юмором, всем будет приятно…
Попробую, соглашаюсь я с воодушевлением Прометея, увидавшего на горизонте Зевесова орла.
Расправившись с мясом и телефоном, совершаю еще один боевой вылет в сторону припева. Бесполезно. Полный ступор, ничегошеньки общественно полезного. Отчаявшись, решаю добить хотя бы то, что есть, и с отвагой смертника погружаюсь в текст. Стойко преодолеваю тошноту и не поднимаю головы, пока к половине первого ночи вместо милых сердцу «бу-бу» не встают каменными скифскими бабами положенные случаю слова. Тогда я зеваю, сколько позволяет челюсть, и удовлетворенно озираюсь вокруг. Боевой друг и товарищ все возится с сарафанчиком.
– Бедолага, – говорю я, довольный собою до краев, – шла бы спать.
Не напишу куплета, думаю, и черт с ним: сдам Пепельникову так, авось проскочит… Ирка грустно смотрит на меня, качает головой.
– Чаю – попьем?
Ирка пожимает плечами: как хочешь, мне все равно.
– Ты чего?… – спрашиваю, а в сердце уже вползает досада.
– Димка, Димка, ничего ты не понимаешь…
Ирка встает, закрывает свои коробочки и уходит с кухни. Я – не понимаю. Да все я понимаю. Ну и дурак же я.
Ирку нахожу в ванной: она всматривается в зеркало, медленно расчесывая волосы.
– Кенгуренок, – говорю, – ты у меня самый красивый. Я тебя очень люблю, честное слово.
Ирка смотрит на меня из зеркала, продолжая медленно расчесывать гриву.
– Ты просто – ко мне – привык, – размеренно произносит наконец она с убивающей интонацией смирения и покорности жестокой судьбе.
– Неправда, – говорю я.
– Нет, правда, – говорит она тем же тоном, продолжая разглядывать свое лицо.
Вставать через шесть часов.
Когда я ложусь, Ирка еще возится на кухне. Полежав немного в темноте, не выдерживаю, шлепаю к ней. Господи, второй час – затеяла делать Чудищу творожок!
– Бедный мой кенгуренок…
Ирка, обернувшись, заглядывает мне в глаза и молча тычется в ключицу носом. Нос этот, между прочим, хлюпает.
Я обнимаю ее, сквозь пижамку легко проступают детские ребрышки и лопатки. Что-то почти забытое, сладкое затопляет мое сердце.
– Я люблю тебя, скелетина моя.
– А ты – моя, – бурчит Ирка.
– Какой же я дурак, – шепчу я.
– Угу, – соглашается Ирка, почесывая кончик носа о мою шею.
Глава III. СУББОТА
Эта пыточная машина – наш будильник – когда-нибудь сделает меня заикой.
Семь двадцать. В темпе, в темпе, Дмитрий Олегович! Сегодня опаздывать никак нельзя. Слава богу, бриться не надо: в нашем доме слышно, о чем шепчутся через этаж, а у меня электробритва.