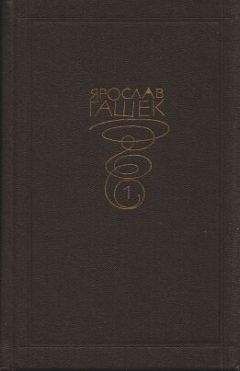Михаил Башкиров - Юность Остапа, или Тернистый путь к двенадцати стульям
Мокрый, чумазый, выбившийся из сил, я узрел в лучах медленно оседающего за равнодушный горизонт солнца Бендера, упитанного, полного энергии, необычайно бойкого и красивого до отвращения.
Прежде чем ввести желанного гостя в процветающую обитель, хозяин щедро окатил меня ледяной водой, растер шикарным махровым полотенцем, закутал в колючий плед.
А в пещере пахло чем угодно, только не ладаном, и черная икона Спасителя с грустными сияющими глазами тоже исчезла.
Хлебнув мутного самогона, я смирился с не укладывающимся в мои иллюзорные представления Бендером. Он, курящий дорогие папиросы и иронично улыбающийся, вернул мне реальность.
Я расчувствовался, расплакался и начал живописать свою горькую долю.
— Почему? Почему? — вопрошал я. — Почему мне не суждено было сгинуть в Миргороде, в котором прочно застрял по не зависящим от меня причинам? Почему мне довелось выкарабкаться после обширной простуды, полученной при самых нелепых стечениях обстоятельств? Почему я не замерз в сугробе, когда самонадеянно выскочил в одних летних кальсонах на двор, а дверь удумала самостоятельно захлопнуться? Как я умудрился целый час на двадцатиградусном морозе выписывать круги под завывание соседских псов и непрекращающуюся близкую стрельбу?
Остапа весьма позабавил данный эпизод моего запутанного, извилистого движения к неудачной, провальной женитьбе.
Прохохотавшись, он спросил, что я сделал с обитателями дома, упорно не открывавшими двери. Я объяснил, что виноват сам, так как слишком зло и напористо стучал. Они, бедные хохлы, перепугались, думая, что пришли с обыском, и безуспешно пытались прятать свое многочисленное имущество.
Бендер опять погрузился в пучину смеха, но я — не без злорадства и чувства мелкой мести — проинформировал его о недавней встрече с бывшим отшельником, отставным палачом.
Предупреждение об искоренении антинародного контрреволюционного гнезда подействовало на веселящегося Остапа самым печальным образом, и он принялся отборнейшими словами выражать сожаление по поводу того, что ему экстренно придется бросать великолепно отлаженное хозяйство.
Проявляя здоровое и вполне уместное любопытство, я спросил, кого же он разводит: курей, уток, гусяток, бычков или телок?
И тут гордость за свое передовое хозяйство вытеснила из Бендера грусть и уныние, и он повел меня, все еще закутанного в плед по подбородок, на экскурсию вокруг преображенного добровольным крестьянским трудом холма.
Мне были продемонстрированы: хранилище для утаенного от ненасытной комиссарской власти зерна, склад оружия затаившихся по селам упорных махновцев, летний шинок, подготовленный к усиленной эксплуатации и забитый бутылями первача, копчеными окороками и прочими разносолами.
Еще во владении предприимчивого, угадывающего желания работящих крестьянских масс пророка-благодетеля находился передвижной бордель из бывших институток и фрейлин двора его величества. Сейчас подвижная группа голубых кровей отсутствовала, исходя потом и утонченной великосветской страстью в затяжном рейде по правобережным бандам.
Ночью я видел пророческий сон. Тарас Бульба и сын его Остап остервенело рвали зубами — не благородного шляхтича и даже не жилистого большевика, а гамбсовский, обшитый английским ситцем в цветочек, гарнитурный мягкий диван с гнутой спинкой…
А Бендер готовился к обороне.
Поутру я обнаружил спешно нарытые окопы и местную упитую вдрызг пышноусую рать, которой были розданы махновские винтовки и пулеметы.
Сам же предводитель, то бишь Бендер отбыл на персональной тачанке за подкреплением.
Прощальная речь его, насыщенная «краснопузыми» и «антихристами», отличалась лаконичностью и отточенностью каждой пламенной фразы.
Я же, пользуясь отсутствием внимания к моей особе, с помощью подручных средств кое-как загримировался под дородного хохла и устроился на тачанке за «Максимом», моля Всевышнего только об одном — чтобы не возникла необходимость изрыгнуть из горячего ствола неточные взволнованные пули.
Через двое суток лихого скока (я потерял наклеенные усы, чужую папаху и пару килограмм веса), с редкими привалами, мы сменяли тачанку с лошадьми и пулеметом на телегу, запряженную дряхлой кобылой, и вскоре медленно, не торопясь, по зеленеющему проселку въехали в Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику.
Телега тряслась и натужно скрипела, а я безуспешно пытался убедить Бендера, что нам давно пора остепениться, забыть беспорядочную, не обеспеченную должным образованием, профессией, партийной принадлежностью жизнь, что Власть на глазах крепчает, и скоро чуждым, анархически настроенным элементам придется совсем плохо, что вступает в неограниченную силу гербовая печать и треугольный штамп, что надо выковывать из себя коллективного индивидуума и шагать в ногу с победившей революцией, что, наконец, с его гигантскими способностями необязательно лезть в шахту или стоять у станка — можно прекрасно подвизаться на каком-нибудь интеллектуально-музыкальном поприще, проявить недюжинный талант в акробатических упражнениях под куполом цирка с поднятием тяжелого серпа и еще более тяжелого молота, в крайнем случае заделаться пролетарским поэтом или воспевающим прелести гражданской войны эпопейным беллетристом, или засесть в редакции юмористического журнала (без юмора даже большевикам не обойтись) и править безграмотные провинциальные письма, или просто продолжить занятие по акушерско-гинекологической линии, написать диссертацию и с научно-весомым именем смыться за границу.
Кобыла внезапно сдохла на переправе через бурлящий мутный ручей.
Я вцепился в упорно молчащего Бендера:
— Ну хочешь, научу тебя в шахматы играть? Чую, в тебе спит гениальный гроссмейстер.
— Лучше дай мне ключ от квартиры, где деньги лежат, сказал великий, но неприкаянный комбинатор. — Прощай, многословный Остен-Бакен, мир тесен, глядишь, еще встретимся… Только не надо сентиментальных слез и воздушных поцелуев… Адье!
Над трупом почившей кобылы уже бились мухи.
Бендер прыгнул на качнувшуюся кочку, ловко удержал равновесие и походным шагом скрылся с увлажненных глаз моих.
Повинуясь зову сердца, я зашагал в противоположном направлении, держа курс на Петроград, к милому, снова нужному, вечному почвоведению.
А следы Остапа затерялись в просторах страны, робко пробовавшей завязывающиеся плоды Новой Экономический Политики.
Глава 19.
МИХЕЛЬСОН И СЫН
«Ничего. Я от морганатического брака.»
О.Б.Судьба (о, злодейка и насмешница!) ровно шесть лет спустя (плюс-минус месяц), снова свела меня (лучше бы она этого не делала!) с Бендером.
Прибыв в Москву со своего провинциального старгородского агрохимического участка имени товарища Урицкого на семинар, посвященный актуальной проблеме «Слияние индивидуально-частного навоза с колхозно-совхозным компостом в свете единства противоположностей и перехода количества в осознанное качество», я, как всегда по окончании слушаний, принялся энергично приобщаться к новым веяниям современного исскуства.
И вот на АХРРовской выставке, среди буйства карминно-ало-багрово-пурпурно-розовых, победно развевающихся знамен и булыжнолицых, мозолеруких, колонноногих, безжалостно настроенных по отношению к мировой буржуазии рабочих, я узрел смутно знакомую фигуру в зеленом в талию костюме.
Уверенный поворот изящно посаженной, нежно вылепленной, жгуче-брюнетистой головы.
Чеканный профиль на фоне тяжелораненого, но вдохновенно поющего «Интернационал» красноармейца.
И глаза наши встретились.
— Это конгениально! Друг детства, отрочества и юности! Остап крепко обнял меня за подернутые солидным жирком плечи. — Откуда, Остен-Бакен? Из Моршанска, Кологрива, Черноморска?
— У меня опытный участок под Старгородом, близ деревни Чмаровки, — сказал я с нескрываемой гордостью.
— Судя по всему — глубинка. Не слыхал, не бывал. Наверное, неподалеку от Рио-де-Жанейро?
— Полтора суток на скором и пять часов в коляске. Под моим начальством — замечательная рессорная бричка, старорежимная, помещицкая. Только дам телеграмму…
— Ладно, ладно, расхвастался, предводитель уновоженных делянок! Лучше объясни, как ты пронюхал, что меня здесь показывают?
— Кого?
— Меня, сына турецко-подданного, известного теплотехника и истребителя кошек… Прошу в центральный зал, для более близкого, как говорил Ги де Мопассан, ознакомления.
Я по давней привычке, сложившейся в те далекие, беспокойные, страшноватенькие годы, покорно последовал за Остапом — его лаковые апельсинового цвета штиблеты с замшевым верхом грациозно преодолевали томно сияющий паркет.