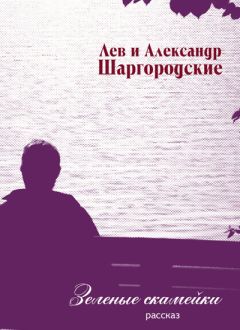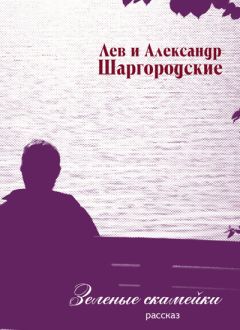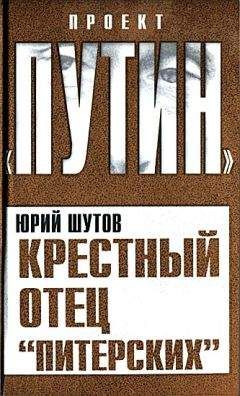Александр и Лев Шаргородские - Бал шутов. Роман
— Воды, — попросил драматург.
— Мне кажется, — Борис обратился к народу, — о постановке этой антисоветской пьесы на сцене нашего театра не может быть и речи!
Орест Орестыч задумался. «Кто его знает, — думал он, — может, Борис прав. Может, мне нехватает ассоциативности мышления… И парторг — отнюдь не парторг… Главный не зря покинул зал…»
Даже Король — Солнце начал что‑то прикидывать в мозгу.
— Нам нужны острые, современные пьесы, с яркими людьми и глубокими мыслями! — продолжал Борис.
Он выхватил из рук героя — любовника томик.
— Вот что мы должны ставить, товарищи! И немедленно! Тут есть прекрасные роли для всей труппы. Вы все станете, наконец, зэками, дорогие друзья!
— А для вас, — он обратился к Королю — Солнцу, — здесь есть роль, о которой вы можете только мечтать!
— Ленина? — с надежой спросил король.
— Солженицына, — мягко поправил его Борис…
С читки Борис явился весь белый, залпом опрокинул рюмку коньяка и, не раздеваясь, бухнулся на тахту.
— Что я делаю, — все время повторял он, — и что, вообще, происходит?..
— Успокойся, — говорила Ирина, — и перестань бить себя в грудь.
Если грех слишком уж сладок — раскаяние не может быть горьким…
— Не — ет, — продолжал он свое, — это не для меня. Эту роль мне не вытянуть!
— Время от времени каждому из нас приходится играть какую‑то роль, — успокаивала она. — Тем более, ты делаешь это довольно лихо.
— Ты знаешь, чего это мне стоит? — спросил он. — Поинтересуйся у моего сердца.
Борис обхватил пальцами правой руки запястье левой и, закрыв глаза, начал считать пульс. Ирина молча наблюдала за ним.
— Вот тебе результат, — произнес он, кончив считать, — восемьдесят шесть!
— Прости, — извинилась Ирина, — я забыла, сколько обычно?
— Не выше шестидесяти, — ответил он. — Даже после Отелло — еврея было только семьдесят два! Так недалеко и до инфаркта! А там…
— Послушай — сказала она, — почему ты считаешь, что мне легче?
— Потому что, если я не ошибаюсь, ты женщина! С вас все, как с кошек! Посчитай свой пульс — и ты увидишь!
— Что я кошка? — уточнила Ирина.
— Ты представляешь, что они все о нас думают?..
— То, что нам нужно, — ответила она, — что мы — диссиденты.
— А если после этого у Главного случится сердечный приступ? Прямо в холодильнике? Или у короля?.. Ведь мы с ним в отличных отношениях — и вдруг!.. Нет, я никогда не смогу играть такие роли.
Зазвонил телефон. Борис сорвал трубку.
— Диссидент Сокол слушает! — прокричал он.
— Добрый вечер, Борис Николаевич, — сладко произнес майор. — Мои поздравления! Вы сегодня были изумительны! Неповторимы!.. Кстати, вашего Олега Сергеевича спасли уже в последний момент. В то самое мгновение, когда он кончил размышлять в своем холодильнике и начал отключаться.
— Но у него хотя бы ничего не повредилось? — с испугом спросил Борис.
— Не волнуйтесь, все в порядке. Он уже приступил к сжиганию пьес… Так что вы — молодец! — подытожил майор.
— Вы так считаете? — недовольно спросил Борис.
— И не я один, — нежно пропел Борщ.
— А кто еще? Секретарь?
— А вы включите приемничек, Борис Николаевич.
— «Маяк»? — уточнил Сокол.
— «Голос Америки» — ласково поправил майор, — а потом созвонимся.
Борис положил трубку и подошел к приемнику. «Дожил, — печально думал он. — Обо мне говорят вражеские радиостанции». Он повернул ручку приемника и долго ловил волну.
— В чем дело? — спросила Ирина, — мы слушам обычно позже.
— Все течет, — неопределенно объяснил Борис.
Из чрева приемника донесся хорошо знакомый голос.
«Вы слушаете «Голос Америки». По сообщениям из Ленинграда известный советский актер Борис Сокол предложил поставить на сцене Театра Абсурда инсценировку книги Солженицына «Архипелаг Гулаг». В главной роли — роли Солженицына — он видит секретаря парторганизации театра. Остальных артистов театра он видит в роли советских баранов… Чего будет стоить это предложение актеру и его жене — покажут ближайшие дни».
— Но это ложь! — вскричал Борис. — Я не говорил, что Маечка, Второв и другие — бараны!
Ирина молча встала, сняла с антресолей чемодан и начала складывать вещи.
— Зачем ты это делаешь? — спросил он.
— Как — зачем? — удивилась она. — Готовлюсь к тюрьме… Тебе приготовить с собой белые тапочки?..
Группу творческих работников Леви увидел уже на летном поле, в момент посадки — и онемел. Ему не захотелось в самолет, в солнечную Испанию… Творческая группа состояла из тех же членов, что и приемочная комиссия. Дама из Управления уже неслась по трапу — она торопилась в туалет. Следом за ней, таща ее чемоданы и подхихикивая, трясся Орест Орестыч… Стюардесса преградила дорогу, но дама отшвырнула ее и скрылась в салоне… Семен Тимофеевич мерно похрапывал у трапа — его привезли прямо от станка. Комсомолка с офицером осторожно подняли гегемона и медленно начали подниматься.
Товарищ из Мавритании широко улыбался, останавливался на каждой ступеньке трапа и приветственно размахивал шляпой.
Дама из партии поджидала Леви.
— Где вы пропадаете, Ягер, — сумрачно произнесла она и приказала: «Поднимайтесь!»
Он поднялся в самолет под конвоем дамы.
Еврею Юре Дорину отказали в последний момент.
— На Испанию хватит и одного, — сообщили ему.
Леви утроился у иллюминатора и с ужасом рассматривал творческих работников. Казалось, группа отправлялась в Испанию, чтобы что‑то запретить или снять.
Все они выучили слово «камарадос» и дружно скандировали его в салоне, чтобы не забыть.
Потом группа начала пересчитывать значки Ленина, которые они взяли с собой для «камарадос». Победила комсомолка, — у нее их было восемьдесят семь. Вождь был представлен во всех возрастах — начиная от двухлетнего и кончая Лениным в гробу…
Из всех испанцев деятели культуры знали только Франко. Одни считали, что это известный матадор, другие — профсоюзный лидер, третьи — что это генералиссимус и диктатор. И только Маргарита Степановна, часто поражавшая окружающих своим культурным уровнем, утверждала, что это великий поэт Федерико Гарсиа Франко, расстрелянный генералиссимусом Франциско Лоркой. Не будем на нее обижаться — тот, кто знает много слов и даже целых словосочетаний, тот может их периодически путать.
— Не доводите меня до сарказма! — кричала Маргарита Степановна на подчиненных…
Самолет, наконец, взлетел, и Леви почувствовал необыкновенную легкость — сияло солнце, проплывали кучерявые облака, и творческие работники как‑то растворились в них.
Он начал читать Галеви, один стих за другим, и ему казалось, что Иегуда в чемодане внимательно слушает его.
Я на Западе крайнем живу — а сердце мое
на Востоке.
Тут мне лучшие яства горьки — там святой моей
веры истоки…
— Что вы там бормочете? — подозрительно спросила Анфиса Фирсовна.
Леви очнулся и увидел перед собой ее харю.
— Федерико Гарсиа Франко, — успокоил он, — зверски замученный Франциско Лоркой.
Анфиса Фирсовна сокрушенно закачала головой.
— Сволочь, — сказала она, — такого поэта сгноил. — И тихо повторила: «… а сердце мое на Востоке…»
Вскоре в окне иллюминатора показалась Испания.
В Мадриде группа разделилась. Мужчины валялись в своих номерах в отеле и смотрели телевидение — шел «Мундиаль».
Орест Орестыч так орал, что пришла полиция. Мужчины бросились навстречу и стали орать «камарадес». После этого их арестовали. Они продолжали смотреть футбол в участке, вместе с полицейскими, дружно вопя. После победы Испании, на радостях, их отпустили.
И мужчины со всех ног бросились в отель — начинался матч «СССР — Аргентина».
Женская группа, презрев футбол, гоняла по городу. Они никак не могли понять, как это мужчины могли сидеть дома в таком городе, как Мадрид, где такие магазины…
Домой женщины возвращались нагруженные, как мулы, скупая все подряд, что стоило ниже десяти пессет, и тут же, не отдыхая, выбегали обратно.
На третий день произошло нечто непредвиденное — всю группу погнали в «Прадо». Возмущению не было предела.
Семен Тимофеевич беспробудно пил Риоху и, наконец, рухнул в «Прадо», в парадном зале, перед Веласкесом.
Он рухнул прямо на колени — и все присутствующие были поражены эмоциональностью простого русского рабочего.
Но Семен Тимофеевич на этом не остановился и медленно продолжал падать дальше. И вскоре он уже растянулся перед Веласкесом.
Творческие работники испугались, пытались поднять его, объясняли, что это не кровать, а «Прадо», но гегемон вырвался и упал прямо на Веласкеса, уткнувшись мордой в Святого Себастьяна.