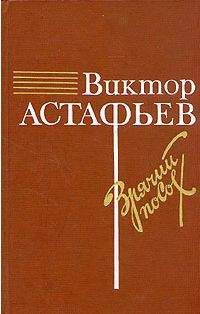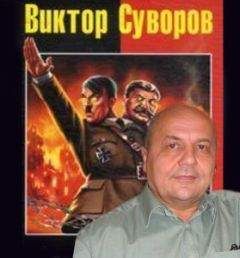Илья Суслов - Рассказы о товарище Сталине и других товарищах
СОН В РУКУ
И приснился мне, братцы, сон. Сны, как известно, возникают сами собой. Нельзя заказать сон на ночь: мол, будьте любезны, приснитесь мне сегодня, молодая Лоллобриджида в соответствующем виде и заливная осетрина под майонезом. И — наоборот: в эту ночь будет сниться твой босс, давно имеющий на тебя зуб, и какой-то тип в сабвее, лезущий на тебя с ножом.
Но мне приснился такой сон, что я утром вскочил и поскорее записал его на бумажку. Мне приснилось, братцы, что я попал в Москву.
Как это вам нравится? Наверное, подсознательно мой мозг все еще не забыл тихих Мещанских улиц. Цветного бульвара с шахматистами на скамейках, старых товарищей, теперь уже по-настоящему старых, родных, тетю Маню и дядю Нусю, девочку с факультета журналистики, запахов, грязного московского снега... Короче, взял я во сне билет на самолет и полетел в Москву.
Во сне я был с бородой и в больших роговых очках. Наверное, для того, чтобы меня не сразу узнали. Стюардесса сказала:
— Наш самолет прибывает в столицу Советского Союза — Москву. Прошу пристегнуть ремни.
По радио раздалась песня «Кипучая, могучая, никем не победимая...».
Мы приземлились и нас отвели к таможенникам. Молодой парень, даже не взглянув на меня, стал рыться в моем чемодане.
— Литература есть?
— Нет.
— Ценности какие-нибудь везете?
— Нет.
— Американец?
— Да.
— Какая цель поездки?
Тут я задумался. А какая цель? Повидать друзей и родственников? Пройтись по знакомым местам? Тряхнуть стариной? Вспомнить молодость?
— Деловая поездка, — сказал я.
— Надолго в нашу страну?
— В вашу? Ненадолго.
Он внимательно на меня посмотрел. Разговор у нас шел по-английски, но он что-то понял. Да и фамилия у меня...
— Что ж, — сказал он, — идите, мистер. Счастливого пребывания в нашей столице.
И я поехал в город. Все было знакомо и незнакомо. Вот этих домов тогда не было. И автобус другой марки. Смотрите, троллейбус! А я уже отвык. А люди? А люди те же. А вот и очередь в магазин. А я уже отвык.
Я снял номер в гостинице и вышел на улицу Горького. Я решил немного прогуляться, а потом позвонить некоторым своим друзьям. А к другим я решил свалиться, как снег на голову. Хотел посмотреть на их лица.
Я шел мимо театра Ермоловой, мимо Центрального телеграфа, мимо здоровенного полукруглого дома сталинской архитектуры и смотрел на людей. И будто не было этих семи лет эмиграции, будто вернулся из отпуска в Крыму, куда слетал на недельку пожариться на солнышке.
(Для тех, кто пропустил начало, напомню, что это я рассказываю свой сон. Это все мне во сне приснилось, братцы.)
И тут я увидел своего старого товарища. Мы с ним частенько сидели в кафе «Националь», на первом этаже. Он посмотрел на меня и не узнал. Ну, конечно же, борода, очки. Я подошел к нему и сказал:
— Здравствуй, Витя. Не узнаешь старых друзей?
— Здорово, Илья, — сказал он. — Ты из «Националя»? А я только иду.
Я немного удивился. Ведь он же знает, что я в Америке. По крайней мере, должен там быть. А я здесь, на улице Горького. Может, это я сплю? Фу ты, черт, я же вправду сплю. Это он мне снится. А может, это я ему снюсь?
— Вот, — сказал я, — приехал посмотреть, как вы тут без меня живете.
— А как живем? — сказал Витя, — нормально живем. Ты на Олимпиаде-то был? Видал, как наши отличились?
— О чем ты, Витя? — сказал я. — Какая, к черту. Олимпиада? Ты мне скажи, как вы тут? Что нового?
— Вот я и говорю, — сказал он. — Олимпиада была летом. До сих пор переживаем. А ты как?
— А я работаю. Дом купил.
— Машина есть?
— Есть. Две.
— У меня тоже скоро будет. Очередь подходит. Ну и как живешь?
— Хорошо. Сын растет. В школу уже пошел.
— А мой уже кончает, лоботряс. Все на гитаре бренчит.
— Так как же ты живешь?
— Слушай, мы же говорили, что Бескова давно пора снимать, потому мы и не взяли футбол.
— Ясно. Ну бывай. Привет ребятам.
— Будь здоров. А ты не изменился.
И пошел дальше.
Тогда я взял такси и поехал к моему лучшему другу. Я знал, что он купил новую квартиру, я сам был там записан десять лет тому назад. Но дом этот теперь уже, наверное, построили. И друг мой должен там жить. У метро «Аэропорт».
Я позвонил. Я очень волновался, потому что любил моего друга. И он меня любил, я знаю. Он открыл дверь, и я сказал:
— Привет вам от вашего друга. Он меня просил передать привет из Америки.
Он сухо сказал:
— Входите.
Он поседел. И морщин прибавилось. И потолстел. Только очки те же. С гедеэровской оправой.
Я вошел, снял плащ, прошел в гостиную. Красиво. Европейская мебель. Эстампы на стенах. Балкон.
— Здравствуй, — сказал я. — Не ждал? Наливай по первой. После первой не закусываем.
Он смотрел грустно и настороженно.
— Ну что ты, — сказал я, — мы же не виделись столько лет! Новая квартира. Как жена, дочка? Как вы тут? С кем коньяк пьете? Слыхал, что в Польше творится?
— Да мы помаленьку, — сказал он. — Дочка институт кончает. Про Польшу не надо. Квартира хорошая, сам видишь. «Жигуленок» бегает. А ты как?
— Все, вроде, хорошо. Работаю. Дом купил. Мортгидж, знаешь какой? Пятнадцать процентов, чтоб они сгорели! Но приходится. Надо же что-то с налога списывать...
— О чем ты? — сказал он. — Ты что-то не то говоришь...
— Прости, — сказал я. — Это я забылся на минуточку. Так как работается?
— Все по-старому. Был на Олимпиаде? Ты Олимпиаду смотрел по телеку?
— Нет.
— Ты с ума сошел! — оживился он. — Это было что-то невероятное! Особенно у гимнасток. Я, как ты помнишь, всегда любил гимнастику...
— Толя, — сказал я. — Гимнастика — это чудно. А ты-то сам как?
— Я? А что я? Я как все. На работу, с работы, тиви, концерты. Генку Хазанова помнишь? Мастер! Обхохочешься. Ну как Райкин!
(Это сон, братцы, это сон. Во сне я все это видел).
— Ну давай по второй. После второй не закусываем.
— Ты здесь... это... легально?
— Ну да. Взял билет и приехал. Тебя посмотреть.
— Мне теперь докладывать, что ты заходил...
— Куда докладывать?
— Ты что, маленький? Или все забыл? Ты же из Америки! Не доложи я...
— Ох ты, Господи! Я и забыл.
— Ну бывай.
— Давай по третьей. После третьей не закусываем.
Я вышел из дома моего друга и побрел по Ленинградскому проспекту. Вот это да! Мне ведь так много хотелось ему рассказать. И расспросить. И ничего не получилось. Почему? Ведь он умный, свой человек, мы с ним были, как иголка с ниткой, куда он, туда и я. И наоборот.
Я сел в такси и поехал к своей тете. К Выставке. Шофер сказал:
— Ты где такой плащик отхватил?
— Какой плащик?
— Ну этот плащик, что на тебе...
— А этот... В Америке.
— Продай, — сказал шофер, — я хорошо заплачу. А джинсы есть?
— Есть.
— Почем?
— А ни почем. Я их сам ношу.
— Ну ты как неродной, — сказал шофер. — Ты что, маленький? Или тронутый?
— Я не фарцовщик, — сказал я. — Я турист. Вот приехал посмотреть столицу вашей родины.
— Смотри, смотри, — сказал шофер, — зенки только поширше раскрывай, а то не все увидишь. А то, может, отдашь плащик-то?
— Нет, не отдам, — сказал я. — Без плаща холодно тут у вас.
...Когда в квартире тети Мани улеглись все крики, связанные с моим приходом, и были в тысячный раз рассказаны истории про всех членов нашей семьи, от мала до велика, эмигрировавших в Америку, дядя Нуся сказал:
— Ну и что ваш президент, он все еще хочет войны?
— Почему это он хочет войны?
— Что ты мне рассказываешь? Он хочет войны! Ты что, не мог ему объяснить, что наш народ не хочет войны? Он что, забыл, сколько наших полегло в ту войну? Ему мало?
— Дядя Нуся, — сказал я, — не морочьте мне голову. Никто у нас не хочет войны. И президент не хочет. Мы только боимся, что вы на нас нападете, как на Афганистан, и нам придется дать вам по зубам.
— Знаешь, — сказал дядя Нуся, — эта Америка таки вычистила тебе все мозги. На кого это мы нападаем? И что ты морочишь нам голову с этим Афганистаном? Это же дикие люди, и мы пришли им помочь строить светлую жизнь!
— Нуся, — сказала тетя Маня, — оставь его в покое, ты не на партсобрании. И это твой племянник. Ты его хорошо знаешь, он всегда был против. Не трогай его, не для того он к нам приехал.
— И скажи своему президенту, — продолжал дядя Нуся, — что мы не потерпим у себя всяких твоих диссидентов-шмиссидентов, чтобы они снова вернули нам царя и помещиков-капиталистов. Нам и без них хорошо.
— Передам, — сказал я. — Непременно передам. Вы не волнуйтесь, дядя.
— И пришли дубленку и джинсы Фимочке, — сказал дядя Нуся. — Родственники называется. Обжираются в своей Америке, а Фимочка должен ходить босый и голый.
— Пришлю, — сказал я. — Не будет Фимочка голый и босый.
Я проголодался. (Во сне можно проголодаться даже после тетиманиного обеда. Вы не забыли, это я сплю, это сон такой идет, братцы). И снова очутился на улице Горького, у ресторана «Арагви». Стояла очередь, как семь лет назад. Толстомордый швейцар из бывших бериевских полковников никого не пускал. Я подошел к нему и сказал по-английски: