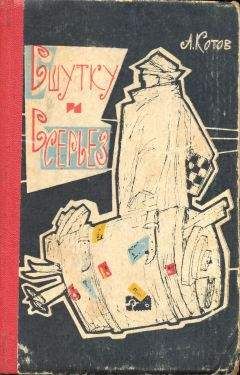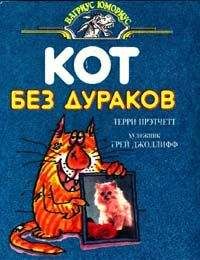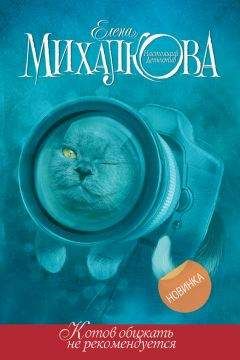Эдуард Коридоров - 40 градусов
Мы немного отвлеклись на обсуждение местного литературного процесса и выпили еще по половинке от оставшейся половинки. Воздух закусочной удивительно легко проносился сквозь горбушку, напитываясь по пути сытным хлебным духом.
– Ты сам-то пишешь чего-нибудь? – поинтересовался Дробиз.
– Не-а, – беспечно ответил я.
– Гляди, тебе ведь уже тридцать. Скоро на покой пора. Успевай, – напутствовал Герман Федорович.
– Это, значит, прописано в Конституции, – надрывался поодаль депутат. – В Конституции, и более, значит, нигде! Оспаривать законы и подзаконные, значит, акты – бесперспективно!
– Перспективно, – обреченно возражал очкарик.
Допив последнее, я пристал к Дробизу с просьбой в сотый раз прочесть стих, очень мною любимый, – про урожайную страду на станции Аять, где «нарезаны земли творческой бедноте».
– Я стою, прислонившись к березе, приникнув к лопате, – негромко бубнил Дробиз. – С косогора к реке уползает поселок Аять. Я форпостом культуры поставлен стоять на Аяти, и на этом стою, и на этом и буду стоять.
И мы разошлись – я направился по Ленина в сторону рюмочной, он по тому же проспекту в сторону пельменной.
Бог знает, что во всем этом было. Но оно – правда, было.
И та карманная горбушка как-то милее мне, чем нынешние заточенные в полиэтилен и целлофан вечно свежие хлебы. Не хочется ими ничего занюхивать. Да уже и не с кем. И негде.
40 градусов в рифму
«Когда-то я был неприкаянным…»
Когда-то я был неприкаянным
И этим гордился слегка.
Натягиваясь, напрягаясь,
Ломалась моя строка.
Отверженным – и двужильным,
Женатым – и холостым,
Мотался я Вечным Жидом
В кабак и в монастырь.
И льстило мне счастье голодное:
Все просто – грешу да пишу.
И водка пилась по талонам,
И девушки ели лапшу.
Детские в стол уткнув локотки,
Любили, жалели навзрыд,
Подталкивая любовные лодки
Туда, где маячил быт.
Несчастная, глупая молодость,
Нищи твои дары!
Бездомье да обездоленность
Пищали, как комары.
Девушки, соблазнившиеся
Набором страдальческих рифм,
Тоже сегодня – нищие,
Влюбившись и разлюбив.
С кем нищете изменишь ты?
Не вылепятся из нас
Мудрый циничный менеджмент,
Честный рабочий класс.
Не вылепится удовольствие
От жизни и от любви.
Что песня – то двухголосие,
Что церковь – то на крови.
«Он приехал из дальней страны…»
Он приехал из дальней страны.
Он почти что забыл этот город.
Он пошел по друзьям,
Но везде получил от ворот поворот.
«Ты теперь из господ, —
Мрачновато шутили друзья, —
А у нас вот закончился порох:
Полтора бутерброда
И долг на два года вперед».
Он бродил по проспектам,
Глазел на дома и прохожих,
Что-то вспомнить пытался,
Только в памяти исподтишка
Разливался страдальческий свет
Этих тесных прихожих,
Этих клеток, в которые весь божий день
Заносило его, дурака.
В забегаловке водочки выпил,
Вернулся в гостиничный номер.
Ах, какая глухая тоска!
До чего бестолковая жизнь!..
Он почти уже спал —
Неожиданно вздрогнул – и замер —
И вспомнил!
Точно – это и вспомнил:
Тоска, бестолковщина, водка,
Хоть спать не ложись…
«Паренек по прозванью Фикса…»
Паренек по прозванью Фикса
Безутешно под ноль постригся
И пошел в райвоенкомат.
Там ему говорят: готовься,
Мы тебя, говорят, заносим
В список завтрашний, говорят.
Фиксе в армию не хотелось.
Он любил свою вольнотелость
И девчонок своих любил.
Ну, раз надо, так значит, надо.
Черт с девчонками. Только Надю
Он сильнее всего любил.
И его обожала Надя.
Ну, раз надо, так значит, надо.
Попрощались, и все дела.
Он ее, конечно, запомнит,
И она его тоже запомнит,
Чтоб любил и чтобы ждала.
Фикса вечером выпил дома,
И отец ему: сено-солома,
Мать ему: ты пиши, сынок.
И неспешно думалось Фиксе,
Как он грустно под ноль постригся
И что завтра будет денек.
«Сменщик мой ударяется в пьянку…»
Сменщик мой ударяется в пьянку.
Он игрок и на руку нечист.
И жена у него – лесбиянка,
И сынок у него – онанист.
Сменщик мой по натуре флегматик,
Но в хмелю – сатаной сатана.
И сынок у него – математик,
И точь-в-точь Пугачиха – жена.
Иваныч
Когда беззлобный алкоголик,
Который всех смешит до колик,
Уходит спать, кренясь слегка,
Считая звезды коньяка
Небесной выдержки столетней,
Соседи суетливой сплетней
Сопровождают старика,
А он плетет свои безумства.
Ах, звезды высыпали густо,
И темен небосвода плеск.
Сквозь глушь двора знакомый бес
Опять Иваныча ведет
Туда, к созвездию Бутылки,
И редкий волос на затылке
Под ветром тоненько поет.
И если бес ему: «Иваныч, —
Сказал бы, – Хочешь сдохнуть за ночь
И отрешиться от сует?» —
Старик, прищурившись на свет,
Сказал бы: да.
Сказал бы: нет.
Он любит жизнь, Егор Иваныч,
Хотя и жизни, в общем, нет.
«Стакан, да огурец ядреный…»
Стакан, да огурец ядреный,
Да смута, голод, нищета.
Поспи, проклятьем заклейменный:
Не происходит ни черта.
Жучки дерутся с червячками,
С козявками бранятся тли.
Над ними среды с четвергами
Идут, идут… Ушли, ушли…
Какой по счету век промотан —
Да не один ли, в общем, хрен?
Все нас, христовеньких, по мордам
Лупцует ветер перемен.
«Поскольку дубасит Москва по столу кулаком…»
Поскольку дубасит Москва по столу кулаком,
Мелеет казна и народу грозит обнищанье,
Постольку сидит областное начальство рядком,
Кипит возмущеньем и с тщаньем ведет совещанье.
«Да что нам Москва? – говорит голове голова. —
Мы сыты и житом своим, и своим антрацитом,
Но пепел недОимок наших стучится в средствА
Всех местных бюджетов, которые все – с дефицитом».
Сказали и смотрят – а что президентский полпред?
А он из полпредства кричит: «Вы впадаете в детство,
Креста на вас нет, и ужо после ваших бесед
Телегу в Москву накатать не замедлит полпредство!».
И снова по селам и долам – великая тишь,
Лишь изредка жидкая пыль за министром взметнется,
Замшелый старик телевизору скажет: «Шалишь»,
Захочет – помрет, а захочет – еще раз напьется.
«Нас жжет покой, нас вечный бой терзает…»
Нас жжет покой, нас вечный бой терзает.
Зима, остервенелый массажист,
Под кожу злые пальчики вонзает…
Пенсионеры борются за жизнь.
Пади на лед – копеечка протает.
Лежи, покуда звезды не зажглись.
Под пузом – чу! – целковый прорастает.
Пенсионеры борются за жизнь.
Картошка, хлеб и водочка простая
Вчера сошлись, а нынче разошлись.
Пенсионеры борются за жизнь,
В бореньях
помирать переставая.
«В мороз, от которого сердце заходится, будто от спирта…»
В мороз, от которого сердце заходится, будто от спирта,
Трамвайному позднему путнику не думается и не спится.
Зима, ледяная птица, на окна трамвая роняет белые перья,
И путник на стекла белым дыханием дышит, исполнен терпенья.
Так терпеливо колеса тяжелые трутся, так трудно рельсам,
Мир утекает враскачку в пустые глаза, чтоб забыться и отогреться.
Что там творится вокруг? Ничего не творится, и незачем рваться из плена,
Пар превращается в иней, исполнен терпенья.
Трезвый корабль, и куда ж волокут тебя белые ветры? Твои пассажиры
Лед ободрали с усов, отогрелись и все позабыли.
«Пьяная женщина с мертвенно-взрослым ребенком…»
Пьяная женщина с мертвенно-взрослым ребенком
Бродит по городу ночью, под гулким дождем.
Так безнадежен их путь, прозябание тонко,
Вот оно рвется, и вот они гибнут вдвоем.
Там, за пустыми, как сон, городскими кустами,
Там, на пустынном асфальте, холодном, как лед,
Пьяная женщина вновь забывается снами,
Мертвый ребенок опять утомленно живет.
Вот они гибнут, замерзнув, спасаясь от ветра,
Вот они снова с морозным рассветом встают,
Мать и единственный сын,
Ожидая ответа,
Не задавая вопросов,
Не зная,
Как их задают.
«Мы любили друг друга…»